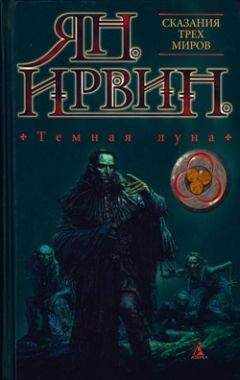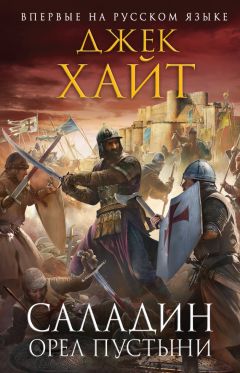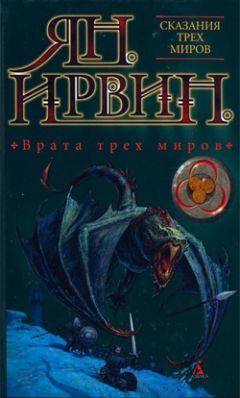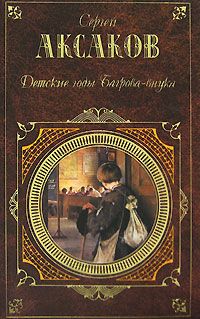Люсьен Лаказ - Приключения французского разведчика в годы первой мировой войны
Это должно быть был профессор литературы, так как он добавил самонадеянным и проникновенным тоном:
— Знаете ли вы замечательный стих, который и сейчас не потерял своей актуальности: «Трезубец Нептуна это скипетр мира»?
Я взял газету, которую он мне протягивал. Действительно, ужасное поражение. А англичане, что они говорили? Ничего!
Во время этой печальной поездки, на душе у всех было тревожно. За исключением нескольких непроизвольных возгласов, все эти люди говорили тихо, как, будто в присутствии мертвеца.
Только один англичанин, к которому я прицепился как к плоту в бушующем море, упрямо повторял, спокойно покуривая свою трубку: «Whatever they've write, don´t believe it. I tell you it isn' t true! Why? Because it can' t be.»[18]
Глава 9. Мои первые шаги в Швейцарии
После первых недель, заполненных больше прогулками и досугом, когда я двигался на ощупь, не зная, с какой стороны приступить к выполнению своих новых обязанностей, наступила эпоха интенсивной работы, и именно практический отбор среди моих агентов помог мне находить необходимые решения.
Я специально остановил свой выбор на больших немецкоязычных городах. Гроссман знал в Базеле бывшего старшего мастера по фамилии Шмидт, уроженца Мюлуза, возненавидевшего немцев, после того, как несколько раз не поладил с ними. Этот человек часто посещал отель «Серебряное Экю», где регулярно играл в карты после ужина. Я зашел в эту гостиницу, довольно скромную, но опрятную и легко нашел среди игроков за карточным столом того, кого искал — Гроссман вполне правильно описал мне его как человека с бородкой как у Наполеона III.
Я немедленно понял, что нужно ускорить ход событий. И не ошибся — Шмидт оказывал мне полезные услуги вплоть до самого конца войны.
— Мы все тут в «Серебряном Экю» заодно, — сказал он мне, — только и делаем, что ломаем себе головы, как бы свести наши счеты с немцами; но мы никого не знали. А теперь дело пойдет!
Он представил меня хозяину, эльзасцу, который сразу же загорелся, как только услышал о нашем деле. Среда эта была чисто франкофильская, там звучали речи настолько неистовые, что я осторожно подумывал о том, не обосноваться ли мне здесь и попытаться воспользоваться этими добрыми настроениями.
Вначале я попросил Шмидта сказать владельцу отеля, чтобы он смягчил тон своих выступлений, и что некоторый душок германофилии даже пошел бы на пользу делу. Так отель мог бы стать более привлекательным для немецких путешественников и сделало бы возможным, принимая немцев, находиться среди них, вращаться в их среде, получая, таким образом, может быть, полезные сведения.
— Но как это сделать, — сказал хозяин, — ведь репутация отеля уже давно сложилась, что поделать!
— Я это хорошо знаю, черт побери, — ответил я, подумав. — А если вы скажетесь больным? Если смените управляющего? Наймите управляющего немца!
— Его можно найти и он будет надежным, потому что я люблю Францию, но не хочу разориться, вы понимаете, ну, в общем, ладно, не мешайте.
Через несколько недель меня принял в «Серебряном Экю» светловолосый господин, прямой, словно аршин проглотил, чисто выбритый, с рыжими взлохмаченными усами. На шее безупречный пристегивающийся воротничок, в общем — типичный унтер-офицер в отставке. Персонал был сменен, за исключением одной хитрой штучки-горничной и одного гарсона в ресторане.
— Ноги моей больше там не будет, — сказал мне Шмидт. — Я хорошо знаю, что управляющий — кузен хозяина, «швоб»[19]. А те, кого он нанял на работу, вызывают у меня рвоту.
— А отель хорошо работает?
— Лучше, чем прежде, я думаю, — ответил он сквозь зубы, — «они» начали туда приезжать, и вы знаете, они если там собираются, то крепко выпивают.
Не прошло и трех месяцев, как этот дом превратился в настоящий бастион германизма. Нам пришлось уволить еще одну часть персонала, заменив эльзасцами из нашей среды, которые, зная, ради чего все это делается, старательно поддерживали «германский фасад». Среди них самих, правда, лопались глупые головы, которых пришлось тоже убрать, чтобы они нас не предали, а из оставшихся никто не попытался ни разу шантажировать нас, например, ради получения большего жалования, а, это, если подумать, уже сам по себе примечательный факт!
С каждым днем заведение совершенствовалось; было искусно создано два фальшивых номера, из которых можно было наблюдать за всеми закоулками соседних комнат; были установлены скрытые микрофоны в других номерах и даже в ресторане. Хозяин, который удалился от дел и уехал в Вале, сказал мне однажды: — Дела идут на редкость хорошо, я собираюсь усовершенствовать все здание; мы уже принимали знаменитых гостей, например, господина фон Вэхтера, имперского прокурора в Х. Но я начинаю крепко тосковать.
Осенью 1918 года он уже задумал приобрести в кантоне Люцерн гостиницу, битком набитую интернированными немцами, но тут внезапно было заключено перемирие.
Шмидт завербовал для меня трех агентов, которые занимались снабжением и проживали в районах Сен-Луи и Лёрраха. Впоследствии ему удалось найти еще одного торгового представителя, который часто ездил по коммерческим делам в Германию. У нас он получил псевдоним Юбер. Он стал групповодом агентурной ячейки, созданной им, и я сам познакомил его с Жюлем, нарушив все мои правила.
Для Цюриха Сен-Гобэн в самом начале предоставил мне одного славного человека по имени Реккер, державшего маленькую табачную лавку в Вёллисхофене. Его дела шли не особо хорошо, и он не пренебрегал дополнительным приработком, который приносила ему его преданность нашему делу. Он, хотя и немецкоговорящий швейцарец, был нам полностью предан, что показало будущее.
— Все в моей семье всегда любили вашу страну, — сказал он мне однажды вечером. — Некоторые из моих предков погибли на «службе Франции». Нужно было слышать, с каким значением он произнес эти два слова. — Последний из них погиб у дворца Тюильри, когда король Людовик XVI приказал прекратить огонь. Я, знаете, не носил ни белый парик, ни красный мундир, но у меня под пиджаком бьется точно такое же сердце! — добавил он, ударив себя в грудь.
В лавочке Реккера работала продавщица, которой он очень гордился — она была его племянницей. В квартале ее прозвали веселой Кэти. Она была красивой девушкой, с темным цветом лица, как у итальянки, черными волосами, длинными и шелковистыми, с крепким и гибким телом. Мужчины, выбиравшие в лавочке сигары, чувствовали, как в их глазах появляется свет, который зажигается в предвкушении возможного покорения. Я думаю, что к этой ситуации хорошо подошли бы слова Лафонтена: «…она несколько легкомысленна, и ее сердце, скажем так, было завоевано не одним победителем, но ее лицо извиняет ее сердце».