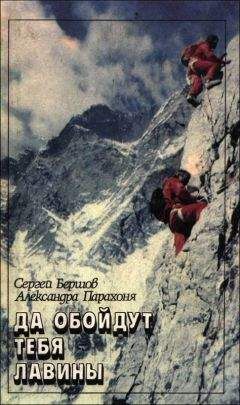Арман Лану - Здравствуйте, Эмиль Золя!
Он говорит и говорит… Он будет соперничать с Бальзаком… История одной семьи, роман в десяти томах. Нет, это действительно гурон! Клинический интерес, который проявляют к нему братья, он принимает за одобрение. Он говорит обо всем: о живописи, о своем друге Мане, о позоре общества, которое упивается Октавом Фейе, Эдмоном Абу, Гюставом Дрозом, Гектором Мало, Жюлем Сандо, Понсоном дю Террайлем и Зенаид Флёрио!
«Мендес написал индусскую поэму! Камодова! Эти глупцы кричат, что поэзия умирает, а ведь именно они-то и убивают ее. Они забывают, что живут в Париже, в 1868 году! Гениальный поэт не воспевает Камодову! Он воспевает современность!»
Он уходит, а развеселившиеся и изумленные братья остаются одни в своем уютном салоне, украшенном японскими безделушками, которые привлекли внимание Золя лишь потому, что их любит Мане!
Ну а Золя? Какое впечатление произвели на него Гонкуры?
Нам повезло, мы знаем и это. В доме 53 на бульваре Монморанси, в загородном особняке с балконами, украшенными бронзой в стиле Людовика XV, Золя Растиньяк встретил двух холостяков, «богатых и свободных холостяков, которые, следуя своим капризам, могут заниматься, чем им вздумается, и которым нет повода сетовать на свою судьбу». Он окинул взглядом мебель, пол, выложенный белой и красной плиткой, лепку на потолке. Он удивился, когда Жюль сказал ему, показывая на Венеру, вытканную на гобелене в комнате, где Золя дожидался (совсем недолго, но столько, сколько надо):
— Дорогой мой, вы были главным защитником «Жермини Ласерте». Наш гонорар пошел на этот гобелен!
(«Черт возьми! Мой гонорар идет на уголь и картофель!»)
Немного погодя Жюль достал из папки рисунки Эдмона. Эмиль выразил свое восхищение, а Жюль между тем продолжал не без наигранности:
— Купив этот дом, мы заплатили восемьдесят три тысячи франков за тишину. Но представьте себе, Золя, вдруг где-то в конюшне рядом с домом, справа от нас, начнет возиться лошадь! Эдмону тогда придется продать особняк.
И тут-то Золя заговорил о деньгах. Заговорил грубо, ополчась против комильфотности, которую эти писатели изобличают в своих произведениях и которой они так дорожат в жизни. Встретившись с Гонкурами, он испытал то же, что испытал Сезанн с его красным поясом, стоя перед элегантным Мане. Гурон из Экса пристально посмотрел на обоих братьев и произнес:
— Характеры наших персонажей обусловлены детородными органами. Это из Дарвина! Литература зиждется на этом!
И в подкрепление своих слов он сделал жест рукой.
Возвращаясь в Париж по железной дороге, над которой вился дымок пригородного поезда, — как далеко находится Отейль! — он думал о Гуаро-Бергассах, своих завтрашних героях.
Первоосновой «Ругон-Маккаров», естественной и социальной истории одной семьи во времена Второй империи, послужили не теории наследственности, а стремление к могуществу… Не стремление героев, а стремление автора. Золя хотел остаться самим собой. Если бы он мог завоевать признание своими поэмами, он устремился бы с поднятыми парусами в лирические дали. Его произведение возникло благодаря тому, что налицо были, с одной стороны, желание добиться во что бы то ни стало прочного успеха, с другой — кое-какие не совсем еще четкие идеи, которые выдвинул писатель; такой минимум идей был необходим, чтобы сцементировать все отдельные части в единое целое.
Золя, которого мучит мысль о том, «сколь велико несчастье родиться на излучине между Бальзаком и Гюго», постоянно думает о Бальзаке: «Какой человек! Я перечитываю его сейчас; он сокрушил целый век». Золя не расстается ни на миг с автором «Человеческой комедии». «Противоречие, раздирающее почти все его романы, заключается в гипертрофии его героев; они кажутся ему всегда недостаточно гигантскими; его мощные руки творца могут лепить только гигантов». Делая практический вывод, Золя отмечает: «Не поступать так, как Бальзак. Уделять больше внимания не отдельным персонажам, а группам людей, социальной среде».
Он указывает: «У Бальзака нет рабочего». Вот пробел, который нужно восполнить[34]. Кроме того, «описания у него слишком длинны, слишком насыщенны». И далее: «Взаимосвязь между различными произведениями была установлена à posteriori». Для Рушон-Сарда, нужно ее предусмотреть заранее. Но какую?
Золя знает свои сильные и слабые стороны. Неутомимый работник, упрямец, созидатель, словно рожденный для неистового труда, он понимает, что ему чуждо все тонкое, изысканное, идеи его просты. И все-таки нужно идти вперед! И он идет, идет робко, неуверенно. Он старается опереться на свои собственные книги, обнаружить то новое, что в них заключено. Вне всякого сомнения, такой книгой является «Тереза Ракен». А еще в большей степени — «Мадлена Фера», где он применил законы физиологии и наследственности.
Ученый Антуан Марион, его друг из Экса, часто рассказывал ему о наследственности. Марион даже назвал маленькое насекомое размером в несколько миллиметров «торокостомой Золя», — пишет Джон Ревалд. Марион и другие друзья просветили Золя в области философии естественной истории и «всех столь странных явлений наследственности». Какой замечательной находкой для романиста, задумывающегося о возрождении единственного двигателя в романах — рока! — является идея об устойчивости крови.
Но действительно ли теория наследственности научна? Бесспорна ли эта новая гипотеза? Золя не заглядывает так далеко! Он допускает наследственность, потому что эта теория — порождение его времени, и она вполне его устраивала. Немало насмешек вызвало то, как он применил эту теорию. Конечно, он упростил ее. Но все же в основном он был прав. Именно это скромно и не без юмора подтвердит профессор Жорж Пуше:
«В науке между тем, что познано, и тем, что еще не познано, лежит обширная область, принадлежащая искусству. Сейчас о наследственности знают не больше, чем знали двадцать пять лет назад. И можно с уверенностью сказать, что ваши ошибки никогда не будут серьезнее наших ошибок!»
То же самое говорит в наши дни Жан Ростан:
«Разумеется, мы знаем сегодня, что черты человеческого характера передаются по наследству значительно более сложным путем, чем мог предположить автор „Ругон-Маккаров“… Но от этого общая концепция Золя не перестает быть абсолютно правильной. Наследственность и среда…»
Человек все уменьшает и уменьшает шагреневую кожу своей метафизики:
«Наилучшей философией является, возможно, материализм, я хочу сказать — вера в силы, о которых мне нет необходимости рассказывать. Слово „сила“ не может скомпрометировать (sic)».