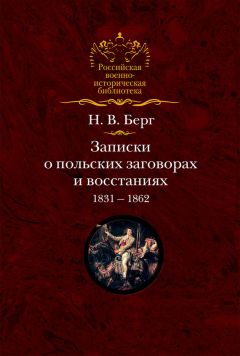Николай Ашукин - Брюсов
Благодарю Вас, тетя, за письмо. Я всегда был убежден, что Вы именно так должны были отнестись к моим стихам. Постараюсь теперь пересказать отчасти свои воззрения, свою душу.
Для Вас, тетя, незыблемо установлено различие человеческих поступков на хорошие и дурные. Вы даже знаете, что добро, что зло — уже не изменяя своих воззрений. Я же этого не знаю, не знаю даже, есть ли такое различие между поступками человека. Никогда не испытывал я того, что называют голосом совести, и заставлял людей плакать столь же спокойно, как радовал их, как приносил им счастье. Больше. Я вообще плохо понимаю чувства, являющиеся в душе от взаимных отношений людей. Я бывал влюблен, я сердился, я мучился стыдом, но все эти волнения — клянусь Вам — очень поверхностно касались моей души. <…>
Но вместе с тем — и опять клянусь и клянусь Вам — что я могу чувствовать очень сильно. Самым детским образом мне случалось и случается плакать над стихами, где та же самая любовь явлена в отраженном (и по Вашему в ослабленном) виде. Еще недавно я пережил период самого мрачного отчаянья, в котором мне стоило больших трудов бороться с мыслью о самоубийстве. Я живу истинной жизнью только наедине с собой, затворившись в своей комнате, читая, размышляя, создавая. Среди людей мне трудно быть искренним – я искренен только в стихах. <…> Для меня поэзия создает мир особых настроений, особых чувствований, которых нет и не может быть в общей жизни. Поэзия и философия – я могу быть счастлив только с ними. Все остальное мне чуждо. <…> Вы мне пишете, что поэзия изображает жизнь – этому-то я и не верю. Я думаю, я убежден, что поэзия берет из жизни только образец материал, а истинное содержание ее совсем независимо от жизни. Или, по крайней мере, такой должна быть поэзия, чтобы действительно успокаивать душу читателя, водворяя в ней особый неземной мир. Так влияют на мою душу стихи Тютчева, Верлена, Эдгара По. Я не могу покинуть моей поэзии, потому что она дает мне блаженство, отдать его в жертву на благо других, потому что не верю в долг, не верю в красоту добра, не люблю людей. Работать на пользу человечества можно лишь тогда, если веришь, что эта работа есть достойное, прекрасное дело, я этого не понимаю. Я не понимаю наслаждения сознанием, что мой долг исполнен. <…>
Если б весь мир осуждал Коперника и требовал, чтобы он занимался более дельными вещами, чем размышления об устройстве вселенной, — верю, он не покинул бы астрономии. Что же могу я сделать, если меня влечет к поэзии, только к поэзии и именно к моей поэзии. Может быть, я заблуждаюсь? (Черновик ответного письма З. А. Бакулиной от 1 марта 1897 года // ЛН-98. Кн. 1. С. 735, 736).
1897. Март, 17.
Писать? – писать не трудно. Я бы мог много романов и драм написать в полгода. Но надо, но необходимо, чтобы было что писать. Поэт должен переродиться, он должен на перепутье встретить ангела, который рассек бы ему грудь мечом и вложил бы вместо сердца пылающий огнем уголь. Пока этого не было, безмолвно влачись «В пустыне дикой…» (Дневники. С. 28, 29).
В феврале 1897 года в семью Брюсовых поступила гувернанткой для младших детей (Александра, Лидии и Евгении) Иоанна Матвеевна Рунт, чешка по происхождению, дочь литейного мастера завода Бромлей, только что окончившая французскую католическую школу в Москве.
Семья Брюсовых была самая странная, самая оригинальная, какую случалось мне когда-либо видеть. В те годы главой семьи была мать поэта, женщина умная, в достаточной мере своевольная и обожавшая своих детей Отец держался в стороне от всех домашних и каких бы то ни было иных забот. Жил он в смежной квартире, где, между прочим, жил и Валерий Яковлевич. Квартира та имела весьма холостяцкий вид, об ней не заботились, ее мало убирали. Яков Кузьмич целыми днями с самым серьезным и деловым видом сидел у себя за большим письменным столом и читал газету или же раскладывал пасьянс; в общую квартиру являлся к обеду и ужину или иногда вечером, чтобы поиграть в карты. Вообще в доме, все от мала до велика, жили каждый своей самостоятельной жизнью <…> Валерий Яковлевич, так же как и отец, приходил к общему обеду, сухо здоровался, садился за стол, ставил перед собой книгу, в которую, бывало, уставится, ничего не замечая и не вникая в то, что происходит кругом (Материалы к биографии. С. 125, 126).
Однажды утром, когда я занималась с кем-то из учеников, толстая няня Секлетинья пронесла через нашу комнату молоко в холодную кухню. <…> Меня удивила красиво написанная бумага, которой была покрыта крынка… Я полюбопытствовала взглянуть. Это оказались стихотворения из «Me eum esse» — «Девушка вензель чертила» и «Три подруги», переписанные тщательно Валерием Яковлевичем. Такое кощунственное отношение к стихам меня покоробило. Я решила покрыть молоко другой бумагой и, расправляя вмятые страницы, стояла и перечитывала знакомые мне стихи. К моему ужасу — за этим делом застал меня Валерий Яковлевич <…>
Брюсов был удивлен и, видимо, доволен вниманием, оказанным его автографам. С тех пор его отношение ко мне резко изменилось, он стал крайне вежлив, предупредителен, давал мне читать французские романы, приносил получаемый им журнал «La Plume» (Воспоминания И. М. Брюсовой).
Весной того же 1897 г. Матрена Александровна с Яковом Кузьмичом уехали в Париж на Всемирную выставку. Валерий Яковлевич понемногу привык ко мне, чужой в доме, скинул напускную строгость, стал чаще оставаться с нами в послеобеденное время, завлекательно беседовал, цитировал латинских поэтов, читал стихи французских символистов, прежде всего Верлена, по поводу которого у нас возник на всю жизнь неразрешенный спор. Валерий Яковлевич утверждал, что поэт вне богемы — не поэт. Спор велся больше потому, что я доказывала обратное. В действительности же Брюсов с богемой не мирился, за редким исключением, под давлением каких-нибудь «авантюристических» влияний.
Летом Валерий Яковлевич ездил в Германию; оттуда прислал мне письмо, нежнее, чем можно было предполагать (Материалы к биографии. С. 126).
Поездка моя ограничилась Германией: я побывал Лине, в Кёльне, в Аахене, в Бонне и еще нескольких рейнских городах. В Берлине я в первые увидел подлинные полотна Боттичелли (петербургское «Поклонение Волхвов» я еще не умел оценить). Уже так много я об них слышал, что мне они явились родными, и мне казалось, что и меня они встретили, как давнего знакомого. Я стоял в зале Берлинского музея (то было еще его прежнее помещение, теперь занятое, почти исключительно, собранием чудовищно-безобразных «мулажей», опозоривающих едва ли не все лучшие создания мировой скульптуры), стоял в пестрой толпе, беспечно глазеющей на белокурую Афродиту, стыдливо потупившую глаза, — и чувствовал себя как бы государем, путешествующим инкогнито и узнанным некоей принцессой! Мне хотелось шепнуть этой невинно-обнаженной девушке со змеями волос на плечах, резко выступающей на совершенно черном фоне: «Не выдавай меня, не говори, что это — я, tace, me eum esse [87]»… Это все смешно, но именно так я чувствовал тогда. Кёльн и Аахен ослепили меня яркой, золоченой пышностью своих средневековых храмов. Впервые «сквозь магический кристалл» предстали мне образ «Огненного ангела» <…> (Детские и юношеские воспоминания. С. 118, 119).