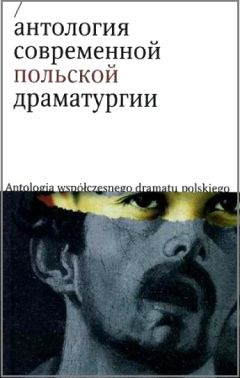Марек Эдельман - Бог спит. Последние беседы с Витольдом Бересем и Кшиштофом Бурнетко
— Значит, за этим рюкзаком во время восстания Антек отправил Казика Ратайзера и еще несколько человек? Дал невыполнимое поручение прорваться в уже занятый немцами район… Но они прорвались и чудом уцелели. Кстати: вы однажды упомянули, что завидовали тому, как Антек выглядел.
— Ничего подобного я не говорил, опять вы мне что-то приписываете.
— Вы говорили, что Антек выглядел как шляхтич. Есть такой снимок: он идет с Казиком Ратайзером — этакий польский пан, с усами, с чубом.
— Точно, так он и выглядел. Но чтобы я ему завидовал? Ясное дело, каждому хотелось выглядеть так, чтобы не привлекать внимания. Но что значит «завидовать»? Чепуху городите.
— И что же: вы никогда никому не завидовали? Не хотели иметь красивую машину? Вы же так любите водить… А что еще вам бы хотелось добыть, сделать, написать, создать?
— Уже ничего. Всё, я закончил. В моем возрасте… Паула Савицкая говорит: это же так долго продолжалось, ты прожил такую долгую жизнь. Кто-то меня спросил: как можно жить, когда все твои близкие умерли? Я ответил: ты что, хочешь и меня отправить в могилу?
Чужды мне эти ваши понятия. Не понимаю, о чем вы говорите. Завидую я, не завидую… Глупости какие-то.
— Ну а заповедь: не желай всего, что есть у ближнего твоего? Иначе говоря: не завидуй.
— Я не завидую. Я не хочу быть Рокфеллером.
— Вы когда-нибудь были богаты? Может, в какую-то минуту таким себя почувствовали?
— Нет. Но деньги у меня были всегда. И всегда много: у людей на хлеб не было, а у меня почему-то было. Не знаю, как так получалось. Может, потребности были очень маленькие. Но деньги у меня водились, и всегда кто-нибудь возле меня мог поживиться.
— А сразу после войны евреи, которых сначала ограбили гитлеровцы, а потом их дома заняли поляки, пытались добиться возврата своего имущества?
— Пытались, но ничего у них не получалось. Впрочем, точно сказать не могу, я ведь, как вы знаете, не принадлежу к числу тех, кому было что возвращать.
— Вам когда-нибудь хотелось разбогатеть? Бывали такие простые человеческие мечты: стать богатым? Сделать карьеру?
— Перестаньте. Будь это так, неужели я стал бы столько времени с вами, журналистами, тут сидеть?
— А журналистом вам быть не хотелось? Или режиссером?
— Нет. Надоело мне отвечать на ваши вопросы. Чего вы, собственно, от меня хотите?
— В заповеди говорится о желании обладать разными вещами. А как насчет желания сделать карьеру? Вам никогда этого не хотелось? Коммунисты не позволили вам защитить диссертацию…
— Не позволили. Это свинство, не спорю. Ну и что мне было делать?
— Тогда в Кракове вся комиссия проголосовала за вас, но Варшава…
— Не Варшава, а один человек. Видно, что вы болеете за Краков. А ведь там не все прошло гладко. Краковский ректор пригласил в комиссию серьезных рецензентов; сам он, замечу, взял обратно свой голос. После голосования власти вызвали рецензентов и ректора на аттестационную комиссию. Когда они сидели на скамейке под дверью, к ним подошел какой-то тип и сказал: не вмешивайтесь в это дело, оно политическое, и тому подобное. Тем не менее они не ушли и выложили все, что думают. В частности, спросили у оберрецензента (между прочим, он был генерал), почему нельзя присвоить мне ученую степень. И услышали: «Потому что нельзя». На том все и закончилось.
Потом мой коллега по больнице стал министром здравоохранения. Он говорит: «Марек, представь ту же самую работу, только измени название. И завтра же с ней приходи». Я ответил: «Пошел ты знаешь куда… А передо мной извинись». А он мне: вот этого он сделать не может. Да и зачем мне эта степень нужна? Чтобы на могиле написали «доцент»?
— Вам потом не хотелось ему отомстить?
— Опять вы за психологию… Если самим нравится делать подлости, не думайте, что все подлецы.
— Мы как раз хотим услышать отрицательный ответ.
— Хотите, чтобы я сказал «нет»… Он болен, у него диабет. Оставьте его в покое.
— Но и без того в больнице к вам все обращаются «пан доцент».
— Это они назло властям стали меня так величать. Знают ведь, что я не доцент.
— Назло властям, но еще и потому, что по праву вы должны быть доцентом.
— Нет… Врач в больнице, который меня даже не знает, не вникает в подробности, но раз в отделении все так говорят, то и он повторяет.
— Кажется, даже вахтер отказывается впускать тех, кто говорит, что идет к доктору Эдельману.
— Что? Почему?
— Он говорит, что доктора Эдельмана здесь нет. Есть пан доцент Эдельман.
— Ну, значит, для вахтера я авторитет.
— Когда вы в жизни особенно сильно радовались? Помните самый замечательный день?
— Не знаю. Нет, знаю! Когда я познакомился с Паулой Савицкой. Она приехала в больницу забрать грязное белье Гражины Куронь. Пришла в красных брючках, нет, в комбинезоне, вдобавок красном! Представляете? Она приходила рано утром, прямо с поезда. Страшно мне это нравилось: в такую рань, два километра пешком, с Лодзи Фабричной. Пешком — потому что экономила: билет на трамвай стоил 50 грошей, которых у нее не было. Потом быстренько бежала ко мне домой: сготовит обед, постирает, помоет пол — и снова идет к Гражине, а в пять уезжает обратно в Варшаву.
Как не влюбиться в такую женщину? Она была очень веселая. Бывало, поглядит на меня и говорит: «Ох, какой же ты красавец!» Дурака, в общем, валяли. Страшно веселились.
— А вам не хотелось добиться научных успехов? В медицине?
— Хотелось, чтобы какие-то вещи, которые я придумал, вошли во врачебную практику. И могу быть доволен: кое-что вошло. Например, снимки, сделанные во время наших операций, публиковались в солидных медицинских журналах как иллюстрации к статьям, где описывались операции, которые проводили американцы.
И еще одно: моим коньком были операции на венах, и пара моих идей получила развитие. То, что я в той своей диссертации писал об отеках, вошло в классическую литературу по физиологии, хотя и не под моей фамилией. Но это есть — и прекрасно.
— Вам действительно не обидно, что эти идеи приписываются кому-то другому?
— Не обидно. Это все мелочи. Я правда ни на кого не в обиде. Кое-что я сделал, а теперь я уже старый, не хочу ничего делать. Да и медицина теперь другая, и молодежь другая. Я не могу постигнуть ментальность нынешних студентов. Для них, как, впрочем, и для всей медицины, главное не человек, а бумажка.