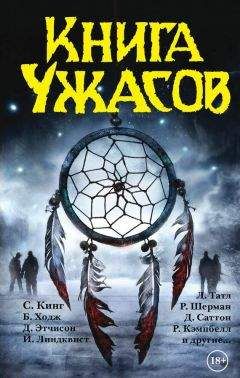Павел Лосев - На берегу великой реки
– Так что прибыл, ваше высокоблагородие. Согласно личной с вами договоренности в ресторации «Царьград». Доставил инструменты. Парижские! Самой новейшей марки. Изобретение господина Сакса. Употребляются во французской гвардии. Премного довольны будете…
А вездесущая няня уже заметила Колю.
– Ой, простудишься, мой свет, – выйдя на балкон, заботливо поправляла она полушалок на Колиных плечах. – Иди, оденься, набрось полушубочек да шапку.
– Постой, няня. Интересно!
– Чего тут интересного? Дудеть теперь будут. Вон глянь, трубу из ящика вытянули. Медная! Что твой самовар…
Во второй половине дня с севера подул пронизывающий ветер. Кот Васька, выпрыгнув в форточку, через пять минут снова вернулся в дом. Носа во двор не высунешь.
И все же Коля уговорил Андрюшу пойти погулять.
– Только на минуточку! Подышим свежим воздухом – и назад!
Няня так укутала Андрюшу, что он едва-едва двигался. Но, признаться, Коле не столько хотелось подышать свежим воздухом, сколько посмотреть, что делается у флигеля. Там стучал топором Трифон. Он распаковывал ящики, вытаскивая оттуда замысловатые музыкальные инструменты: трубы, дудки, барабан.
В окнах флигеля мелькала тень унтер-офицера. Иногда он открывал дверь и кричал:
– Тащи кларнеты! Тромбон давай!
Трифон недаром побывал в Париже: он, видно, хорошо разбирался в музыке, знал, что такое кларнет и тромбон…
А у крыльца опять началась какая-то суматоха.
Коля поспешил туда.
У крыльца они увидели незнакомого человека, обросшего густой бородой, босого. Позади него виднелся солдат с ружьем.
Схватившись за грудь, босой человек вдруг тяжело закашлялся. Глухой свист вырывался у него из груди.
– Эх, бедняга! Вишь, как застудился, – сочувственно произнес стоявший чуть в сторонке сторож Игнат, – даже худых лаптишек на тебе нет.
– Сапоги были, – сквозь кашель ответил незнакомец, – отняли, ироды.
– Кто отнял, скажи? – смущенно заворчал солдат. – Мне чужого не надо. Я службу исполняю. Его сиятельство граф Лопухов меня послал.
– Да не о тебе баю, – снова заговорил босой человек. – В остроге меня догола раздели. И сапоги, и тулупчик забрали. Дивлюсь, как рубаха на мне осталась.
Какой знакомый голос! Коля внимательно пригляделся: боже мой, да это Степан! И он чуть было не бросился к нему. Но на крыльце выросла фигура отца. Он быстро сбежал вниз и, оказавшись около Степана, злорадно ухмыльнулся:
– Что, собака, набегался? Думал, в столице от меня спрятаться? Нет, не вышло! Опять в моих руках. Как же теперь поступать с тобой прикажешь? А?
Степан молча кусал нижнюю губу. Не дождавшись ответа, Алексей Сергеевич что есть силы ударил беглеца по лицу. Кровь хлынула из носа.
– Вы не смеете драться, – глухо проговорил Степан, прикрывая лицо ладонью. – Я не собака, я человек!
Этого Алексей Сергеевич никак не ожидал. Он привык, чтобы крепостные бросались перед ним на колени, просили милости, целовали сапоги. И вдруг: «Вы не смеете драться! Я человек!» Алексей Сергеевич прямо затрясся от злости и начал хлестать Степана по щекам.
Андрюша в испуге заплакал.
– Иди домой, – зашептал ему Коля. Но сам он уходить не хотел, мучительно думая, как помочь Степану.
В это время заговорил солдат. Заикаясь и моргая от страха глазами, он попросил:
– Ваше высокородие! А, ваше высокородие! Мне бы расписочку, как положено!
Алексей Сергеевич непонимающе глянул на солдата.
– Что? Какую расписку?
– Да тую самую, что при письме графа Лопухова приложена.
Сердито буркнув, Алексей Сергеевич поднялся по ступенькам крыльца в дом.
Степан, продолжая молчать, вытирал рукавом кровь на бороде. К нему вплотную приблизился сторож Игнат.
– Где хоть схватили тебя, горемыку? – жалеючи, спросил он.
– На Исакии-соборе,[10] – застуженным голосом печально ответил Степан. – Украшения на нем делал. По душе была работка.
– Вишь ты, сколько хлопот барину задал, – хмурясь, сказал солдат. – Пожалел бы его, несчастного. Гляди, как он мается, – солдат насмешливо кашлянул и сплюнул.
– Пускай покуражится, – прохрипел Степан. – Буду жив, снова сбегу.
– Эх, друг, друг! – сострадательно произнес солдат. – А куда? Везде нашего брата найдут. Я бы тоже непрочь вольно пожить. Пятый год под красной шапкой хожу да еще целых двадцать годов осталось. Вернусь в деревню стариком. А там у меня ни кола, ни двора. Одно мне место – на погосте!
Солдат хотел еще что-то сказать, но Алексей Сергеевич уже опять появился на крыльце.
– Вот! – кинул он расписку на землю. Солдат быстро наклонился, поднял бумагу, сложил ее вчетверо и сунул за пазуху. Затем, торопливо козырнув, он быстро зашагал к воротам, словно боясь, что и на него падет гнев помещика.
А тот уже орал во весь голос:
– На конюшню! На конюшню!..
Коля в страхе бросился в комнату. Почти в самых дверях он столкнулся с няней.
– Нянюшка, милая! Степана на конюшню погнали. Бить будут!
Ухватив Колю за руку, няня потянула его в угол, к древней иконе с бледно мерцающей лампадкой.
– Молись, молись, Николушка! – жарким шепотом повторяла она. – Бог милостив, удержит злую руку…
– Он голодный, нянюшка! Я хлебца ему отнесу, – тревожно сказал Коля, поднимаясь с колен.
Няня испугалась:
– Что ты, Николушка, что ты, голубчик! Подвернешься на глаза батюшке, уложит он тебя на скамейку рядом со Степаном.
– Никто не увидит, нянюшка, – с жаром убеждал он. – Я незаметно, сторонкой.
Минуту подумав, няня со вздохом согласилась:
– Ладно! Это дело божеское Она вынула из буфета большой ломоть хлеба, густо посыпала его солью и, обернув белой тряпочкой, отдала мальчику.
Прижимаясь к высокому забору, Коля торопился на конюшню. Учащенно колотилось сердце, мурашки бегали по телу.
Может, отец еще не пришел, и Коля успеет передать хлеб. Но из полураскрытых ворот конюшни уже доносился сердитый отцовский голос. Опоздал! Сделалось тоскливо. Коля обогнул конюшню и затаился около потемневшего кустарника. Рядом росла низкая сучковатая береза. Сунув хлеб за пазуху, Коля забрался на дерево. В стене конюшни – широкое отверстие, что-то наподобие окна. В сильные морозы его затыкали соломой. А сейчас оно открыто, и хорошо видно все, что внутри.
Глазам Коли открылось низкое, но довольно просторное, с земляным полом помещение. Посредине, на деревянной скамье, лежал полуобнаженный Степан. В углу темнела бочка с водой. Из нее торчали пучки тонких прутьев. На стене висели страшные плети разных размеров.
Кроме отца и Степана, в конюшне – староста Ераст, доезжачий Платон и охотник Ефим.
Ераст держал беглеца за ноги, Платон – за голову. Отец молча трогал пальцем переплетенную ржавой проволокой плеть.