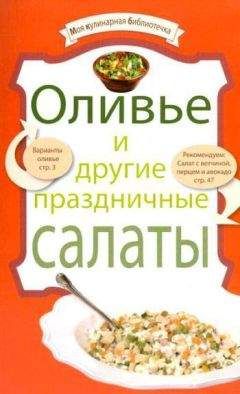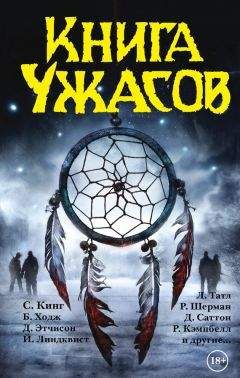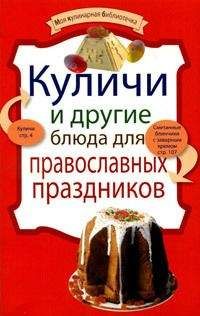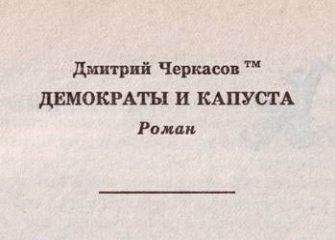Сергей Николаевич - Майя и другие
Легко сосчитать возраст моей героини. Но не поверить в него. Хотя сама Марфа Пешкова на просьбу раскрыть секрет своей молодости отвечает, что ничего особенного нет, просто нужно во всем соблюдать меру. А восхищения своей красотой и вовсе встречает едва ли не с обидой: “Одна корреспондентка в прошлом году обманом записала со мной интервью, а потом еще и назвала в статье Марфой-красавицей. Это же издевательство! Что я, ничего про себя не понимаю, что ли!” Зная отношение хозяйки дома к красивым словам, молчу. Зато друзья, несколько раз оказавшись вместе со мной у Пешковой, не выдерживают и обрушивают на Марфу Максимовну соловьиные трели восторга. А потом говорят мне: “Мы видели Историю”. Интересно, что бы они сказали, расскажи я им о том, что три года назад, аккурат на момент нашего знакомства, у Пешковой была серьезная травма – перелом шейки бедра. Несколько лет она пыталась починить ногу в наших больницах. Но слышала от врачей лишь совет заглянуть в паспорт и радоваться тому, что имеет возможность передвигаться хотя бы с палочкой. Тогда Марфа Максимовна обратилась к врачам испанским, и те сделали-таки операцию. “А как бы я иначе могла отправиться на свадьбу своей внучки? – удивляется моему очередному восторгу Пешкова. – Не с палочкой же!”
Я не помню, чтобы у Марфы Пешковой было плохое настроение. Лишь один раз, после того как из-за пробок на Рублевке я смог пробыть у нее от силы пять минут, передал какие-то подарки и тут же вынужденно сбежал в Москву, на другой день она говорила со мной по телефону подчеркнуто сухо: “Я удивляюсь вашему нелюбопытству”. Да я и сам потом ругал себя – как можно по своей воле отказать в удовольствии услышать невероятные истории, действующими лицами которых становятся знаковые персонажи ушедшего века. И рассказывает обо всем человек, если и не принимавший непосредственное участие, то уж точно являющийся прямым свидетелем тому, о чем мы читаем в учебниках.
Марфа Максимовна вспоминать любит и умеет рассказывать о прошлом так, словно это случилось вчера. Она не жалеет о былом, никого ни в чем не винит, хотя в ее жизни были довольно драматичные моменты – взять хотя бы конфискацию всего имущества и домашний арест, которому ее, ожидавшую третьего ребенка, подвергли после ареста всесильного свекра. Никто не защищает Лаврентия Берию, но санкции, как сказали бы сегодня, в отношении уж точно ни в чем не повинной невестки – это было чересчур. Пешкова о событиях 1953 года вспоминает спокойно, при этом то и дело сообщая поистине сенсационные факты, которым она стала свидетелем. И признается, что не испытывает ни малейшего желания ничего поменять в своей судьбе.
На вопрос о том, знакомо ли ей чувство ностальгии, отвечает: если только к Италии, благословенной солнечной стране у моря, где Марфа появилась на свет. Говорит, что самое лучшее время в жизни ее семьи связано именно с Сорренто. Что же касается редкого имени, поясняет, что так ее назвали в честь Марфы-посадницы, но крестил русский священник, специально вызванный в Сорренто Горьким, как Марию.
Признаюсь – непривычно, когда знаменитого писателя, “Буревестника революции”, как Горького называли в советских учебниках по литературе, кто-то величает просто “дедушкой”. Особенно если это происходит уже в новом веке. Кажется, я ни разу не слышал, чтобы Марфа Максимовна называла его по фамилии. Спрашиваю, как воспринимала называние парка культуры и отдыха в Москве или нынешнюю Тверскую, носившую раньше имя Горького. “Совершенно отстраненно, никогда не задумывалась, что все это названо в честь моего дедушки”, – отвечает Пешкова.
После часов, проведенных в ее доме, я поймал себя на том, что тоже больше не воспринимаю Горького лишь как мирового классика и автора великих пьес и романов. Для меня Максим Горький стал почти родным, пусть не дедушкой, но живым человеком, по утрам надевающим голубую рубашку, дабы подчеркнуть цвет глаз, расчесывающим свои такие знакомые по фото усы и ежик волос и наносящим на них несколько капель душистого одеколона. Именно таким он запомнился Марфе Пешковой.
Единственное, к чему я так и не сумел привыкнуть, – к невероятной памяти моей собеседницы, восстанавливающей с точностью до последнего штриха события своей жизни. О детстве ей напоминают десятки старых карточек, которые Марфа Максимовна каждый раз к моему приходу достает из альбомов и раскладывает на журнальном столике. Я знаю, что все фото хранятся на полках большого книжного шкафа, за стеклом которого установлены книги дедушки и старинная раскрашенная фотография: Горький с женой Екатериной Пешковой и сыном Максимом. Но иногда мне хочется думать, что хозяйка достает уникальные снимки из старого фамильного резного сундука, стоявшего в свое время еще в доме Горького в Нижнем Новгороде. За спинкой дивана в большой комнате, объединенной с кухней, устроена своего рода выставка коллекции: фигурки осликов. “Это мой талисман, – улыбается она. – Когда у мамы пропало грудное молоко, кто-то подсказал ей, что младенца можно кормить ослиным. Как видите, это оказалось правдой”. Когда я только переступил порог квартиры Пешковой, то обратил внимание на репродукцию в рамке и под стеклом: в старинном кресле сидит редкой красоты женщина, задумавшаяся о чем-то далеком. Сам оригинал работы Павла Корина хранится в Третьяковской галерее.
“Моя несчастная мама, – перехватив мой взгляд, пояснила Марфа Максимовна. – Почему несчастная? Это долгая история. Когда-нибудь расскажу”.
Конечно, после этой фразы я ждал, когда же Пешкова исполнит свое обещание. Невестка Горького, мать Марфы, была знаменитой московской красавицей, о которой много говорили, но документальных и подробных свидетельств о ней, увы, не существует.
В свое время Анна Ахматова сказала, что одна из ненаписанных трагедий двадцатого столетия – это история под названием “Тимоша”. Именно так в ближнем кругу называли невестку Максима Горького. Тимошей она стала с легкой руки писателя. Однажды она вышла к столу, сняла шляпу, и под ней вместо привычной роскошной косы гости увидели коротко остриженные волосы. Которые топорщились во все стороны.
“У нас так кучера ходили”, – заметил Горький. “Точно, вылитая Тимоша”, – тут же поддержал отца Максим, назвав жену именем, которым обращались к извозчикам.
Когда-нибудь я напишу об этой семье подробно. Пока не пришло время. Сама Марфа Максимовна во время нашей очередной встречи, а вернее – потока моих расспросов и волны своих воспоминаний, вдруг сделала паузу и спросила сама: “Вы собираетесь обо всем этом писать? Но тогда не сейчас. А уже потом”. И сделала паузу.
Я услышал молчание Пешковой. И пока, заручившись согласием своей героини, предлагаю лишь часть ее воспоминаний. Кстати, когда Марфа Максимовна читала рукопись, то вносила столь меткие правки, что, не зная ее родословную, впору было задаться вопросом, в кого у нее такой литературный и редакторский дар.