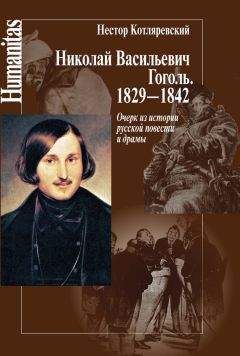Нестор Котляревский - Михаил Юрьевич Лермонтов. Личность поэта и его произведения
Как рельефно выражена в этих стихах мысль об общественной роли поэта и как высоко вознесен идеальный образ пророка-поэта!
Но отдаваться мечте о великом призвании поэта или скорбеть о его унижении не значило найти решение задачи. Когда Лермонтов начинал хладнокровно вдумываться в загадку своей миссии как художника, он вновь терялся в размышлениях.
В стихотворении «Журналист, читатель и писатель» (1840) сделан новый шаг к решению неотвязного вопроса. Писатель, отвечая на запросы журналиста и читателя, рисует им, как известно, в двух картинах два момента творчества – минуту радостного и свободного вдохновения и момент наплыва тяжелых дум и вдохновения несвободного, вызванного размышлением и навязанного извне. Плоды мгновений восторга —
Когда забот спадает бремя,
…………………………………………
И рифмы дружные, как волны,
Журча, одна вослед другой
Несутся вольной чередой.
Восходит чудное светило
В душе проснувшейся едва:
На мысли, дышащие силой,
Как жемчуг нижутся слова…
Тогда с отвагою свободной
Поэт на будущность глядит,
И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт.
– писатель осуждает на сожжение, как безотчетный бред, достойный смеха. Как в стихотворении «Не верь себе», так и в этих стихах личные мгновенные увлечения поэта сочтены пустяками и обесценены в глазах толпы:
Ужель ребяческие чувства,
Воздушный, безотчетный бред
Достойны строгого искусства?
Их осмеет, забудет свет…
Плоды наплыва озлобленных дум и сатирического настроения также должны быть хранимы втайне и не выставляемы напоказ людям. Творчество в эти моменты несвободно —
Бывают тягостные ночи:
Без сна, горят и плачут очи,
На сердце – жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлет;
Невольный страх власы подъемлет;
Болезненный, безумный крик
Из груди рвется – и язык
Лепечет громко, без сознанья,
Давно забытые названья…
В таком нервном состоянии художник от анализа собственных чувств переходит вольно и смело к сатире окружающего:
Тогда пишу. Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум:
То соблазнительная повесть
Сокрытых дел и тайных дум;
Картины хладные разврата,
Преданья глупых юных дней,
Давно без пользы и возврата
Погибших в омуте страстей,
Средь битв незримых, но упорных
Среди обманщиц и невежд,
Среди сомнений ложно черных
И ложно радужных надежд.
Судья безвестный и случайный,
Не дорожа чужою тайной,
Приличьем скрашенный порок
Я смело предаю позору;
Неумолим я и жесток…
Но зачем петь эти песни перед толпой, когда рискуешь остаться непонятым и даже можешь совершить преступление?
Но, право, этих горьких строк
Неприготовленному взору
Я не решуся показать…
Скажите ж мне, о чем писать?
К чему толпы неблагодарной
Мне злость и ненависть навлечь,
Чтоб бранью назвали коварной
Мою пророческую речь?
Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный
И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток?
О нет! преступною мечтою
Не ослепляя мысль мою,
Такой тяжелою ценою
Я вашей славы не куплю…
До сих пор речь шла о том, что поэт имеет право гордо хранить про себя свои личные песни, что, тем не менее, он обязан считаться с нуждами толпы, на страже духовных интересов которой он поставлен, что, наконец, толпа также иногда имеет нравственное право сердиться на поэта за его самомнение. Теперь поднят иной вопрос: в какой степени нравственно прав поэт, взявший на себя тяжкую миссию говорить обществу о его пороках? Не перевесит ли вред таких разоблачений их пользу? Не окажется ли лекарство вреднее самой болезни? – мысль туманная, которую поэт не пояснил и в растерянности, кажется, пояснить не мог.
Чем глубже Лермонтов вникал в загадку, тем с большей грустью смотрел он на свое призвание, и кончил тем, что, не уяснив себе своей общественной роли, вернулся к старым ощущениям: он стал звать поэта из «городов» в «пустыню», разрешая ему лишь торопливо пробираться среди толпы, преследующей его своим глумлением:
С тех пор, как Вечный Судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот, в пустыне я живу,
Как птицы, даром Божьей пищи.
Завет Предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная,
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.
Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:
«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами.
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!
Смотрите ж, дети, на него,
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»
Поэт и толпа вновь противопоставлены друг другу как две силы, не пришедшие ни к какому соглашению.
Мучительно тоскливо было на душе поэта, когда он думал над этим неотвязным вопросом. И он мог в эти минуты припомнить одно стихотворение, в котором он как бы предвкушал все муки такого раздумья и заранее отказывался от всякой общественной роли. В 1837 году он писал:
Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет;
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти. – настанет час кровавый,
И я паду, и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцветший гений;
И я погибну без следа
Моих надежд, моих мучений;
Но я без страха жду довременный конец.
Давно пора мне мир увидеть новый;
Пускай толпа растопчет мой венец,
Венец певца, венец терновый!..
Пускай! я им не дорожил.
Сопоставляя все эти стихотворения, объединенные единой мыслью, можно сказать уверенно, что загадка общественной миссии поэта так и осталась для Лермонтова неразрешенной. Он не находил в своей поэзии того удовлетворения, какое находит человек в любиом «деле», его мечты о великом призвании также не находили себе оправдания в его творчестве, и в вопросе о соотношении этого творчества с жизнью поэт не пришел ни к какому примиряющему выводу.
Если бы Лермонтов мог усвоить отвлеченный философский взгляд на роль искусства в жизни, взгляд, который так умиротворял душу всех эстетиков 40-х годов, или если бы он родился несколько позднее, в то время, когда всколыхнувшаяся общественная жизнь втягивала поэта в свой круговорот, то он, конечно, не страдал бы так от всех этих раздумий и сомнений.