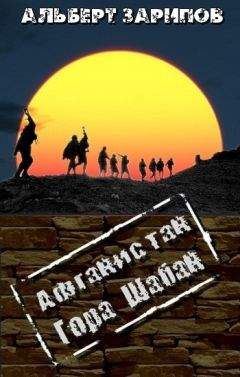Рихард Зонненфельдт - Очевидец Нюрнберга
Положение моей семьи резко ухудшилось. Весной 1938 года, когда мы с нетерпением ожидали визы, которую должны были выдать со дня на день, правительство Рузвельта внезапно приостановило прием евреев-иммигрантов из Германии. Они не могли найти самый неподходящий момент. Десятки тысяч человек искали возможность уехать. Ожидание американской визы питало наши надежды. Теперь нам некуда было ехать. Нам было страшно.
Однажды, когда я приехал домой в Гарделеген из берлинской школы, мама усадила меня в приемной у отца. Я так и вижу ее в белом халате, с серьезным выражением лица. Она спросила меня, что я думаю насчет того, чтобы мы вместе закончили свои мучения самоубийством, от которого не будет больно. Мы просто все вместе мирно заснем.
Мысль мне совсем не понравилась, и я сказал нет. Эта тема больше не возникала. Мне было приятно, что мама спросила моего мнения. Возможно, я был слишком мал, чтобы до конца осознать смысл нашего разговора и отчаяние, вызвавшее его. Потом я часто думал, что бы случилось, если бы я ответил да.
Мама пришла в себя. Еще более находчивая и изобретательная, она использовала все доступные связи и невероятным образом добилась, чтобы нас с Хельмутом приняли в Новую Херлингенскую школу-интернат в Англии. Мы должны были начать учебу осенью 1938 года, через два месяца. Тем временем наши родители будут ждать в Германии, пока США откроют двери немецким евреям, что, возможно, произойдет в следующем году. Тогда наша семья воссоединится в Америке. Но ясно, что первейшей заботой наших родителей было спасение детей.
Так что летом 1938 года я в последний раз поехал домой в Гарделеген. Я попрощался с теми немногими евреями, которые еще оставались там, и с еще меньшим количеством немцев, которые рискнули тайком со мной попрощаться. Среди них не было друзей моего детства. Только двое бывших пациентов родителей, считавших себя обязанными своим спасением врачебной помощи отца, пришли попрощаться после наступления темноты.
В те последние дни я прибился к шайке хулиганов, которые жили в лачугах у Стены. Обычно я чурался этих неопрятных вонючих сорванцов, чьим родителям нечего было терять из-за связей с евреями. Им было наплевать, «хорошие» они немцы или нет. Эти мелкие воришки таскали вещи то тут, то там, а отсутствие у них телесных и умственных ограничений, особенно когда с ними были их девушки, оказалось для меня очень поучительным. К счастью, нас не поймали с поличным, иначе мой отец попал бы в тюрьму, если не хуже.
19 августа 1938 года в Гарделегене мы с мамой и Хельмутом сели на поезд. Мама должна была довезти нас до Англии и потом вернуться в Гарделеген. Отец не смог получить временную визу в Англию, возможно, потому, что британцы не хотели впускать к себе целую семью еврейских беженцев. Когда наш поезд отъезжал от гарделегенского вокзала, отец махал нам на прощание. Я видел, что он плачет. Он потерял контроль над собственной судьбой и не знал, увидит ли когда-нибудь своих сыновей. Это наверняка был жесточайший удар для человека, который верил, что любовь сильнее чего бы то ни было, и у которого было железное чувство ответственности. Он защищал нас, как мог, от нацистских мучителей. Ни тогда, ни потом он не терял веры в глубинную доброту человека, даже когда видел аморальную жестокость. В тот день он плакал. Я тоже чуть не разревелся, но утешал себя тем, что скоро мы снова будем вместе в Америке.
Поезд больше двенадцати часов ехал по Германии, и мы все думали, сможем ли пересечь границу. Скоро я отвлекся, потому что рассердился на мать. Она дала мне одеяло и сказала:
– Накройся, а то простудишься.
В пятнадцать-то лет я уже сам знал, нужно мне одеяло или нет!
– Не надо меня одеяла! – ответил я.
– Делай, как я тебе говорю, – сказала мама, но я не послушался.
За нашими пререканиями прошло время. Когда поезд остановился у немецко-бельгийской границы, мы с мамой все еще не разговаривали друг с другом. Сначала немецкие пограничники, потом бельгийские проверили наши паспорта. Они вели себя так просто, что, когда поезд въехал в Бельгию, мне было трудно поверить, что мы спаслись из нацистской Германии.
Раньше мы со страхом думали, удастся ли нам живыми покинуть Германию. Теперь, когда паром на пути из Бельгии в Англию качался на волнах Ла-Манша, я стал понимать, что мы с Хельмутом свободны. Это было почти разочарование, потому что мы не пережили ужасных мук. Мы пережили унижение и страх, но физического вреда по большому счету нам никогда не причиняли. А сейчас мы уже почти верили, что не причинят никогда. Когда показались белые утесы английского побережья, а в ушах зазвучали непривычные слова английского языка, предвкушение новой жизни в английской школе-интернате уже изгоняло из моей души прошлый страх.
И мать, и отец привили мне важнейшие ценности. Отец научил меня, что храбрость, честность, прямота и милосердие вознаграждаются чистой совестью и что служить людям – почетно. Мама научила меня, что я могу добиться успеха во всем, если захочу по-настоящему, и что я «особенный». Она научила меня быть смелым, предприимчивым и сильным. Они оба ценили искренность и откровенность, и слова у них не расходились с делами. Хотя тогда я этого не осознавал, но эти ценности я принесу с собой в новую жизнь, которая должна была вот-вот начаться.
Глава 6
Англия
Я знал по-английски меньше сотни слов, когда мы с Хельмутом и мамой сошли с парома в Фолкстоне, переплыв Ла-Манш из бельгийского Остенде. Я еле-еле научился заворачивать язык, чтобы произнести английское «арр» вместо немецкого «эрр». К тому же у меня была проблема с английским дабл-ю, у которого в немецком языке нет эквивалента.
В Фолкстоне мы сели на поезд до Фавершема в графстве Кент, где пересели на другой поезд. В поездах были обитые тканью сиденья, а не деревянные лавки, как в вагонах третьего класса, которые мы знали в Германии. Вагоны были выкрашены в ярко-зеленый и лаковый черный, как и локомотив, совсем непохожий на закопченные немецкие паровозы. У него даже были золотые полоски по бокам и на трубе. На дверях в вагонах были медные ручки. Поезд смотрелся очень празднично. Я удивился, как быстро он тронулся и покатился по сельской местности, которая больше напоминала парк, чем унылые картофельные, ржаные и спаржевые поля у Гарделегена. Английские коровы были коричневые с белым и толстые, а не тощие черно-белые, к которым я привык; еще там паслись овцы, козы и лошади, привольно скакавшие на опрятных полях, огороженных заборчиками. Железнодорожные станции были такие чистые, некоторые украшали цветы. Как будто я приехал на каникулы. В 1938 году сельский Кент выглядел прелестно с его зелеными пастбищами, белеными каменными домиками фермеров, аккуратными заборами и оградами высотой до груди. В первый день моей обретенной английской свободы было голубое утреннее небо с пуховыми белыми облаками. Я приехал в чудесный Новый Мир.