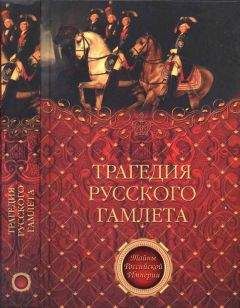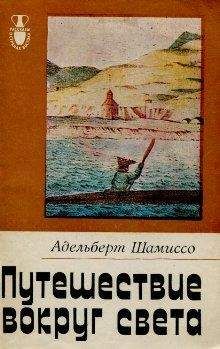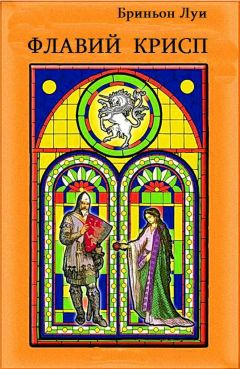Август Коцебу - Достопамятный год моей жизни
Я встретил в нем старика с очень почтенным выражением лица, которому он счел необходимым придать в этом случае торжественный и внушительный вид. Он холодно поклонился мне, надел очки, развернул бумаги, до меня относящиеся, и прочел их все основательно, не обращая никакого на меня внимания. Я нашел нужным дать ему маленькое предостережение в том, как желал бы, чтобы со мною поступали, а потому взял стул и сел. Он искоса с изумлением посмотрел на меня и продолжал читать, не сказав ни слова.
В соседней комнате собралась толпа любопытных, состоявшая из довольно взрослых детей, очень хорошенькой женщины (второй супруги председателя), его старушки матери, почти слепой, и мужчины средних лет, одетого в польское платье. Все смотрели на меня в глубоком молчании, которое продолжалось все время, пока судья читал бумаги.
Окончив чтение, он обратился ко мне и с улыбкою протянул мне руку. Вероятно, губернатор особенно рекомендовал ему меня, а, быть может, в мою пользу говорило также его сердце, доброта которого не замедлила обнаружиться. Судья поздравил меня дружески с благополучным прибытием, представил своему семейству, а затем и поляку, которого поручил моей дружбе как товарища по несчастью. Я трогательно обнял последнего и мы сошлись во мнении, что одинаковость нашей судьбы сделает нас братьями и друзьями.
Фамилия судьи, или главного представителя юстиции в Кургане, была де Грави (de Gravi). Отец его, шведский офицер, был взят в плен под Полтавою и сослан в Сибирь вместе с другими товарищами по оружию. Он женился на местной обывательнице и умер в ссылке. Сын его служил в русской армии, участвовал в семилетней войне, возвратился на родину в Сибирь, перешел из военной службы в гражданскую и жил счастливо, вполне довольный своими небольшими доходами; я никогда не видел, чтобы он был чем-либо недоволен или скучен. Он был только что произведен в надворные советники и, хотя не обладал пустым тщеславием, тем не менее этот чин немало льстил его самолюбию.
После первых приветствий, речь зашла об отводе мне помещения, которое, согласно полученным приказаниям, должно было быть одно из лучших. Но так как помещение это могло быть выбрано только из числа тех, которыми полиция имеет право располагать и которые домовладельцы обязаны по ее требованию уступать приезжим, то понятно, что каждый хозяин старался по возможности отклонить от себя эту неприятную тягость, а в случае невозможности отделаться от нее отводил приезжему самую жалкую из своих комнат.
Г. Грави, подумав некоторое время, назвал призванному им чиновнику, маленькому и горбатому, фамилию того, кто должен был меня приютить. Он приглашал меня отужинать с ним, но я просил уволить меня от этого, так как очень устал с дороги и желал устроиться в моем новом помещении.
Я последовал за моим проводником. Он привел меня в низенький дом, при входе в который я едва не сломал себе шею. Это начало не предвещало много хорошего; предназначавшиеся мне комнаты оказались очень плохи; это были какие-то темные чуланы, в которых едва можно было стоять; голые стены, стол и две деревянные скамейки, окна заклеенные бумагою, вот и все; постели не было. Я глубоко вздыхал; хозяйка дома точно так же вздыхала и с скрытым неудовольствием, молча, стала убирать из комнат пряжу, разные вещи и старое платье, которые тут лежали.
Впрочем, я скоро примирился с предстоявшими мне неудобствами и начал понемногу, насколько было возможно, устраиваться в этой комнате.
Едва прошло полчаса, как г. Грави прислал мне окорок, два хлеба, яиц, свежего масла и несколько других припасов, из которых расторопный Росси приготовил прекрасный ужин для меня и для себя. После этого я пытался заснуть на грязном полу, но насекомые и горе совершенно разогнали мой сон.
На другой день, рано утром, меня посетили главные обыватели города. Я назову их последовательно, чтобы дать читателю понятие о том, что в Кургане считается хорошим обществом.
Степан Осипович Мамнеев (Mamnejef), капитан-исправник, то есть лицо заведывавшее уездом в полицейском отношении, смотревшее за дорогами и мостами, собиравшее подати, разбиравшее и решавшее ссоры и споры крестьян и т. д. Он был честный, услужливый, веселый и развязный человек, проявлял иногда наклонность к роскоши, но к роскоши не всегда совмещавшей вкус. Я например помню, что видел в одной из его комнат несколько маленьких, круглых столов и блюд, на которых были нарисованы прекрасные английские гравюры, покрытые лаком в Екатеринбурге. Это были очень дорогие вещи, но вместо того, чтобы исполнять назначение столов и блюд, они висели как картины на стенах; ножки от этих столов стояли в комнатах как простое украшение.
Иуда Никитич, заседатель суда (Judas Nikitisch, sedatel), брат приятельницы губернатора, которая дала мне к нему рекомендательное письмо. Это был очень ограниченный и совершенно незначущий человек.
Другой заседатель был еще более ничтожен.
Секретарь суда, порядочный человек, имевший высокое мнение о своих дарованиях, единственный житель Кургана, получавший «Московские Ведомости».
Врач — один из самых невежественных.
Таков был, за исключением городничего, находившегося в отсутствии, тесный кружок, в котором я должен был грустно проводить остаток моей жизни.
Самою занимательною личностью в городе был, без сомнения, поляк, о котором я выше упомянул, по имени Иван Соколов (Ivan Sokoloff), бывший землевладелец на новой русско-прусской границе. Он не служил и не участвовал, ни прямо, ни косвенно, в польском восстании. Один из его приятелей, имевший подозрительную переписку с лицами, жившими во вновь приобретенных Пруссиею польских местах, полагал, что будет получать с большею исправностью письма из-за границы, если они будут адресованы на имя Соколова, и, не предупредив последнего, указал своим друзьям этот путь сношений. Первое же письмо было перехвачено. Соколов решительно ничего об этом не знал. Он обедал у одного из своих соседей, генерала Виельгорского. Офицер, тщетно искавший его в собственном доме, последовал за ним туда и арестовал вместе с другими лицами, частью виновными, а частью невинными. Все они долго содержались как государственные преступники в какой-то крепости. Наконец дело это дошло до Петербурга; их простили, но велели сослать в Сибирь.
Соколов и его товарищи были посажены в кибитки и отправлены по назначению. Большая дорога проходила в нескольких верстах от его имения; напрасно просил он позволения взглянуть еще раз на свое семейство и захватить с собою белье и платье; ему было отказано. В этой самой кибитке довезли его до Тобольска. Тут он был разлучен со своими товарищами и отправлен в Курган, где около трех лет уже вел самую печальную жизнь, не имея ни малейшего известия о своей жене и детях.