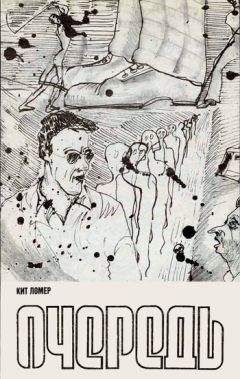Михаил Черненко - Чужие и свои
Смитс подумал и сказал, что ведь затвердеет бетон только завтра. И начертил концом электрода число: 6.VI.1944.
Ну а завтра, днем шестого июня сорок четвертого года, репродуктор начал передавать на повышенных тонах германскую военную сводку о высадке союзников во французской Нормандии — об открытии Второго фронта. После сводки пошли сплошные вопли в адрес нехороших империалистов и плутократов, которым ораторы обещали скорое возмездие. Военные же действия выглядели у них так, что «ведутся операции по окружению и уничтожению десанта, однако отдельным группам удалось...». Всем было все очень даже понятно.
Немцы наши, расходясь от репродуктора, были невеселы. А фламандец Юзик Смитс подзывал «заслуживающих доверия лиц» к будущей зарядной станции и гордо показывал нацарапанную вчера сегодняшнюю дату.
Наши голландец и бельгиец, Питер и Йозеф, зарплату получали как немцы. Могли переписываться с родными, письма в Бельгию и Голландию шли и оттуда тоже приходили. Письмо могло дойти за несколько дней, а могло и через три недели. В дневнике у Юзика записано, что 15 января 1944 года ему выдали «контрольную карточку», без которой нельзя отправлять и получать письма. Норма — два письма и одна открытка в месяц. А с 24 мая разрешались уже только открытки. На сохранившемся письме, посланном Юзиком домой из Германии в 44-м году, видна работа цензуры: на конверте в обратном адресе оставлено только имя улицы, а название шарашкиной мастерской — «генераторен-унд-моторен» вымарано. Старались цензоры, не зря хлеб ели!
Юзик посылал родителям деньги — из зарплаты, через бухгалтерию. И получал из дому письма, из которых следовало, что эти деньги туда не приходили. Юзик обращался к бухгалтеру господину Кинасту, и тот каждый раз объяснял ему, что он все делает как следует. Что он будет еще наводить справку почему перевод задержался, и как это сложно в военное время.
У Юзика была еще такая, по-нашему можно сказать — общественная обязанность: каждый вечер и при воздушной тревоге ночью проверять в цеху и в конторе, не остался ли включенным свет или что-нибудь еще. И с этой целью ему каждый вечер оставляли ключи от дверей. В конторе был не только репродуктор, но и радиоприемник, на котором, наверное, висела полагающаяся красная картонка с напоминанием о карах, которые ждут тех, кто «подслушивает вражеские передатчики» Юзик включал иногда этот приемник и ловил лондонское радио. А потом рассказывал мне про новости с войны, как бы делясь своими догадками, предположениями. Особенно после вторжения союзников во Францию.
И вот однажды вечером его застукал с включенным приемником бухгалтер Кинаст. Он жил в соседнем с фабрикой доме, и у него, наверное, был свой ключ. Юзик, конечно, испугался. А бухгалтер, погрозив ему пальцем, сказал, что доносить куда следует он, так и быть, не станет. Но чтоб сварщик Йозеф Смитс не смел больше приставать к нему, занятому человеку, со своими затерявшимися переводами!
Юзик все понял, и ему пришлось после этого помалкивать о пропавших деньгах.
К сожалению, в то время я уже курил. Еще в Фюрстенберге втянулся постепенно, начиная с «оставь курнуть!». Наверное, и по причине желания быть взрослее, и от постоянного чувства голода. Курева всем нам, будь то махорка или здешние сигареты, сильно не хватало. То же самое, кстати, было и с немцами, получавшими по специальной «табачной карточке» табак или сигареты из расчета четыре штуки в день. Большинство курящих старались как-то растянуть этот паек, брали вместо сигарет табак и крутили из него самокрутки, для которых в Германии была специальная папиросная бумага — листки с клеевой полоской, собранные в узенькую книжечку.
Уже не помню кто, Юзик или голландец Питер, раза два получал из дому бандероль с несколькими пачками крепкого табака. Мне тоже доставалось угощение, и несколько дней была в нашей фабричной компании этакая курильная вольница. Потом все входило в норму. Сигарету курили три или четыре раза, оставляли друг другу «курнуть», окурок потрошили в какую-нибудь коробочку, чтоб со временем набралось на завертку.
Приходилось, хотя и не часто, поднимать чей-то окурок на улице и отправлять оставшиеся в нем крохи табака в ту же коробочку. (Это бывало редко не потому, конечно, что стыдно собирать окурки. Найти на улице окурок — вот что было большой редкостью.) Сильно курящим немцам приходилось делать то же самое.
Нелепица — в военном Берлине сохранились, причем даже на крышах домов, броские рекламы берлинской табачной фабрики «Юно». Черный медведь из городского герба держит пачку сигарет. И высоченными буквами над фасадом: «Was sagt der Bar? Berlin raucht Juno!» (Что говорит медведь? Берлин курит «Юно»!) Но в один прекрасный день (или ночь, не помню) американские или английские бомбы грохнулись на эту табачную фабрику. И сигарет «Юно» не стало. Народ же, скорее всего, сам немецкий народ, отреагировал на это событие чуть не на следующий день, перефразировав бывшую рекламу в простенькое двустишие:
Was sagt der Bar?
Berlin raucht keine Juno mehr...
Что полностью соответствовало действительности — сигарет «Юно» не стало, и, значит, их в Берлине уже не курили. И в других городах, разумеется, тоже.
Ездил я в Фюрстенберг, конечно, только на выходной — они на этой фабрике соблюдались. Как только кончался в субботу рабочий день, я поскорее мылся-переодевался и на городской электричке катил в центр, на Фридрих-штрассе. Про то, что эта улица рядом со станцией — известное злачное место, не имел в то время ни малейшего понятия. Дальше шел пешком на Штеттинский вокзал, это совсем близко, протягивал в окошечко кассы деньги-рейхсмарки и получал билет до Фюрстенберга и обратно; сколько он стоил — не помню. И садился в уже известный мне поезд, никто меня ни о чем не спрашивал и не проверял.
Немецкие вагоны тех времен были совсем не такие, как советские, будь то пригородные или дальнего следования. Довольно коротенькие, из трех, кажется, отделений, в каждом — одна напротив другой две скамьи для сидения пассажиров, на каждой должны были сидеть человек пять или шесть. Главное же отличие было в том, что в каждое такое отделение были отдельные двери — с обоих боков вагона. То есть пройти вдоль по вагону или в другой вагон было нельзя; куда сел, там и езжай, по крайней мере до следующей станции. Правда, снаружи сделаны вдоль всего вагона подножки, по ним проводники-контролеры (в Германии они были и остались в одном лице) иногда переходили из отделения в отделение и на ходу. Пассажиров в такое отделение набивалось, особенно на обратном пути, человек двадцать, а то и больше. Половина из них, я в том числе, стояла («как сельди в бочке») в узком проходе между скамьями. Билеты проверяли по дороге из Берлина каждый раз, по дороге обратно — очень редко, потому что проводнику было не протолкаться. Облавы не было ни разу, военный патруль заходил в вагон раза два за все время, мной они не интересовались.