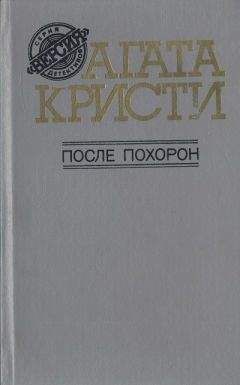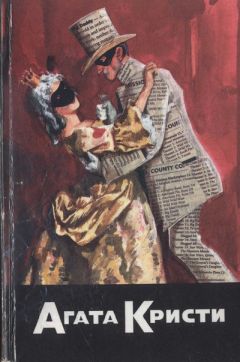Владимир Набоков - Временное правительство и большевистский переворот
Мое положение было психологически очень трудное. Не менее, как за месяц до того, я принимал участие в частном совещании, созванном кн. Григорием Ник. Трубецким как раз по этому вопросу. В этом заседании были Терещенко и Нератов, а из приглашенных припоминаю Родзянко, Коновалова, Третьякова (оба уже были министрами), Савича (члена Государственной Думы), Стаховича Мих. Ал., Маклакова, П. Б. Струве, бар. Б. Э. Нольде, — кажется, все, Милюков отсутствовал, его в то время не было в Петербурге. Вопрос, собственно, сводился к тому, допускает ли конъюнктура данного момента ориентацию в сторону мира и требуется ли такая ориентация нашим военным положением.
За время, довольно долго предшествовавшее этому совещанию, я неоднократно и со все растущей тревогой задумывался над этим вопросом. Мне пришлось раз довольно случайно, в Зимнем дворце, поговорить на эти темы с Терещенко и высказать ему мои опасения. Он, в сущности, их разделял, но все же утверждал, что по словам генерала Алексеева возможно оздоровление и реорганизация армии и подготовка к весенней кампании, — пока же нужно и можно держать фронт. Должен сказать, что меня нисколько не убедили его соображения. Когда затем, главным образом по инициативе бар. Нольде и Аджемова, вопрос был поставлен в Центральном Комитете у нас (это было, должно быть, в двадцатых числах сентября и также в отсутствие Милюкова), бар. Нольде сделал обширный доклад, сводившийся к тому, что чем дольше продолжается война, тем больше и невознаградимее наши потери, что армия наша все в большей степени становится добычей большевизма, что по всему ходу дел можно уже теперь предвидеть окончание войны «ни в чью», без решительной победы с чьей бы то ни было стороны, и что нам нужно напрячь все силы для того, чтобы побудить союзников к мирным переговорам, так как о сепаратном мире, понятное дело, не может быть речи.
Центральный Комитет отнесся к докладу и ко всему в нем развитому ходу мыслей — в подавляющем большинстве своем — отрицательно. Защищали его, сколько мне помнится, только А. А. Добровольский (очень решительно и определенно) и я. Никаких постановлений сделано не было, было решено дождаться возвращения Милюкова и вновь поставить во всем объеме вопрос о войне и о международной политике. Кстати сказать, это обсуждение так и не состоялось. Милюков вернулся только около 10-го октября (после нашего московского съезда), а через две недели произошел большевистский переворот.
На совещании у Трубецкого бар. Нольде более или менее точно воспроизвел всю свою аргументацию. И на этот раз она в общем не встретила сочувствия. Особенно резко возражал М. В. Родзянко, возражал и Савич, и другие. Суть возражений заключалась отчасти в оспаривании факта полного и бесповоротного разложения нашей армии, отчасти в указании, что нет ни малейших данных рассчитывать на склонность наших союзников отнестись сколько-нибудь благоприятно к какой бы то ни было нашей инициативе в постановке вопроса о мирных переговорах. Я и тут поддерживал Нольде. А. И. Коновалов с большим жаром и искренностью также присоединился к его выводам. Помню его слова о том, что то правительство, которому удалось бы дать России мир, приобрело бы огромную популярность и сделалось бы чрезвычайно сильным.
Мне пришлось уйти до конца заседания и я не слыхал речей Струве и Маклакова, но, как мне потом сказали, из них только последний отчасти поддерживал Нольде. Было решено периодически собираться для обмена мнениями, но вторичного собрания уже не было.
Само собою разумеется, что и в Центральном Комитете, и в этом совещании у Трубецкого мое положение было иное, чем при беседе с Верховским. Он к нам обращался, как к лидерам кадетов. Наиболее авторитетными среди нас были, конечно, Милюков и Шингарев. Они сразу обрушились на Верховского. Мне приходилось молчать, — тем более что как бы ни была обоснованна и доказательна аргументация Верховского, его собственная несостоятельность была слишком очевидна и ожидать от него планомерной и успешной деятельности в этом сложнейшем и деликатнейшем вопросе было невозможно. Он и здесь, и раньше всею своею личностью вызывал определенно отрицательное отношение. Можно было опасаться, что, предоставленный своей собственной инициативе, он заведет нас в безвыходный тупик. Кроме того, все его недавнее прошлое было настолько — в политическом отношении — сомнительно, что не исключалось предположение, что он просто играет в руку большевикам. Разговор закончился тем, что Верховский спросил: «Таким образом я не могу рассчитывать на Вашу поддержку в этом направлении?» и, получив отрицательный ответ, встал и раскланялся, — а на другой день, в вечернем заседании комиссии Совета Республики (комиссии по военным делам) повторил в дополненном виде всю свою аргументацию, с теми же выводами. Здесь произошло его столкновение с Терещенко, поставившим ему в упор вопрос (на который он должен был ответить утвердительно): «Может ли он, Верховский, подтвердить, что всё, им сказанное, впервые говорится в заседании комиссии и что в правительстве никакого обмена мнениями по этому вопросу не было?» Верховский ответил, что действительно он до настоящего времени такого доклада в заседании Вр. Правительства не делал. Впечатление получилось совершенно скандальное. Верховский был уволен в отпуск, причем подразумевалось, что он из отпуска не вернется. А через несколько дней произошел большевистский переворот.
В эти октябрьские дни, в хорошо мне знакомом доме № 10 на Адмиралтейской набережной, в бывшей квартире моего тестя, теперь занятой А. Г. Хрущевым (это была квартира управляющего дворянским банком), ежедневно, в шестом часу, собирались министры к.-д. (Коновалов, Кишкин, Карташов, примыкающий Третьяков), вместе с делегированными в эти совещания членами Центрального Комитета — Милюковым, Шингаревым, Винавером, Аджемовым и мною. Цель этих совещаний заключалась в том, чтобы, во-первых, держать министров в постоянном контакте с Центральным Комитетом и, с другой стороны, иметь постоянное и правильное осведомление обо всем, происходящем в правительстве. В этих наших собраниях Коновалов имел всегда крайне подавленный вид, и казалось, что он потерял всякую надежду. «Ах, дорогой В. Д., худо, очень худо!» — эту его фразу я хорошо помню, он неоднократно говорил мне ее (ко мне он относился с особенным доверием и доброжелательностью). В особенности его угнетал Керенский. Он к тому времени окончательно разочаровался в Керенском, потерял всякое доверие к нему. Главным образом его приводило в отчаяние непостоянство Керенского, полная невозможность положиться на его слова, доступность его всякому влиянию и давлению извне, иногда самому случайному. «Сплошь и рядом, чуть ли не каждый день так бывает», — говорил он. «Сговоришься обо всем, настоишь на тех или других мерах, добьешься, наконец, согласия. — „Так как, Александр Федорович, теперь крепко, решено окончательно, перемены не будет?“ — Получаешь категорическое заверение. Выходишь из его кабинета — и через несколько часов узнаешь о совершенно ином решении, уже осуществленном или, в лучшем случае, о том, что неотложная мера, которая должна была быть принята именно сейчас, именно сегодня, опять откладывается, возникли новые сомнения или воскресли старые, — казалось бы, уже устраненные. И так изо дня в день. Настоящая сказка про белого бычка». Особенно беспокоило его и всех нас военное положение Петербурга и роль полковника Полковникова, к которому он не чувствовал ни капли доверия. По-видимому, Керенский в эти дни находился в периоде упадка духа, подвинуть его на какие-нибудь энергические меры было совершенно невозможно, а время шло, большевики работали вовсю, все меньше и меньше стесняясь. Положение с каждым днем становилось все более и более грозным. Слухи о предстоящем в ближайшие дни выступлении большевиков ходили по городу, волнуя и тревожа всех. В эти дни было отдано — совершенно академическое — распоряжение об аресте Ленина.