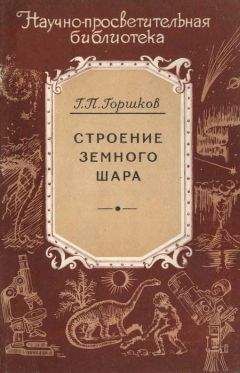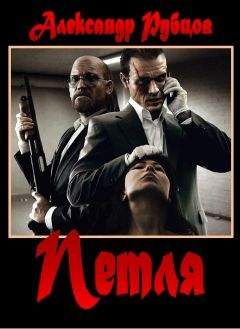Литтон Стрэчи - Королева Виктория
Это было куда серьезней, чем может показаться. Дело не в том, что благородные леди поднимали Альберта на смех, а благородные джентльмены презрительно хмыкали при упоминании его имени; и даже не в том, что Виктория, которая до замужества пыталась завоевать популярность в светском обществе, мало-помалу оставила эти попытки под влиянием мужа. Со времен Чарльза II английские монархи, за единственным исключением, никогда не следовали моде; а то, что этим исключением был Георг IV, только подтверждало правило. Так что вовсе не пренебрежение модой вменялось принцу в вину, а отсутствие других исключительно важных качеств. Враждебность высших классов была следствием более глубокого антагонизма, нежели неприятие манер или вкусов. Принца называли инородцем. Трудно сказать, что именно понималось под этим словом, но факт был очевиден для всех. К примеру, лорд Пальмерстон тоже не гнался за модой. Великие аристократы-виги косо на него посматривали и терпели лишь как неприятную неизбежность судьбы. Но лорд Пальмерстон был англичанином до мозга костей. Было в нем что-то, что с необычайной очевидностью выражало коренные признаки английской расы. Он был полной противоположностью принца. По странной случайности получилось так, что именно этому типичному англичанину пришлось вступить в тесный контакт с заморским чужеземцем. В результате различия, которые в более удачных обстоятельствах могли бы сгладиться и исчезнуть, вместо этого проявились с болезненной остротой. Самые тайные силы души Альберта бросились на борьбу с врагом, и в последовавшем долгом и яростном конфликте казалось, что он сражается с самой Англией.
Вся жизнь Пальмерстона прошла в правительстве. В двадцать два он стал министром; в двадцать пять ему предложили пост министра финансов, от которого он с неожиданным для него благоразумием отказался. Свою первую должность он занимал бессменно двадцать один год. Когда к власти пришел лорд Грей, Пальмерстон получил пост министра иностранных дел, на котором пробыл два срока, в общей сложности еще двадцать один год. За это время его репутация в обществе неизменно росла, и когда в 1846-году он стал министром иностранных дел в третий раз, его положение в стране стало близким, если не равным, премьер-министру лорду Расселу. Он был высоким, крупным, веселым человеком шестидесяти двух лет, с широким лицом, подкрашенными бакенбардами и сардонически вытянутой верхней губой. Его частную жизнь едва ли можно было считать образцовой, но он успокоил общественное мнение, женившись уже в позднем возрасте на леди Купер, сестре лорда Мельбурна и одной из наиболее влиятельных покровительниц Вигов. Могущественный, опытный и чрезвычайно самоуверенный, он, естественно, почти не обращал внимания на Альберта. Да и с какой стати? Ах, принц интересуется иностранной политикой? Ну, тогда пусть он сам обращает внимание на него — на него, который был министром, когда Альберт еще под стол пешком ходил, который был избранным предводителем великой нации и который ни разу в жизни ни в чем не ошибался. Он вовсе не искал внимания принца — Боже упаси: для него Альберт был всего лишь молодым иностранцем, ничем особенно не выдающимся, чьим единственным достоинством было то, что ему случилось жениться на королеве Англии.
Пальмерстон жил инстинктами — зорким взглядом и сильными руками, ловко выкручиваясь из любых возникающих неприятностей и полагаясь на подсознательное ощущение ситуации. Он был отважен; и ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем вести корабль государства наперекор буре, в бушующем море и под всеми парусами. Однако есть предел, за которым отвага становится безрассудством — предел, подвластный лишь интуиции, но не разуму; и этого предела Пальмерстон никогда не преступал. Когда он видел, что обстановка того требует, он замедлял шаг — иногда даже останавливался. Вся его наполненная невероятными приключениями карьера была образцовой иллюстрацией пословицы: «Тише едешь — дальше будешь». Но когда требовалась быстрота, ему не было равных. Как-то, возвращаясь из Осборна, он опоздал на лондонский поезд; тогда он заказал специальный, но начальник станции сказал, что выпускать специальный поезд в это время суток опасно и он не может этого разрешить. Пальмерстон настаивал, ссылаясь на неотложные дела в Лондоне. Начальник вокзала, при поддержке всех станционных чиновников, продолжал сопротивляться и заявлял, что не возьмет на себя такой ответственности. «Тогда сделайте это под мою ответственность!» — тоном, не допускающим возражений, заявил Пальмерстон. Лишь после этого начальник вокзала организовал поезд, и министр иностранных дел добрался до Лондона вовремя и без всяких приключений. Эта история являет собой типичный пример той бесшабашной храбрости, с которой он вел и свои дела, и дела государства. «Англия, — заявлял он, — достаточно сильна, чтобы не бояться последствий». И под руководством Пальмерстона так оно и было. Пока чиновники протестовали и тряслись в нерешительности, он мог обойти их с криком «под мою ответственность!» — и быстро привести страну к победе по избранному им пути — и без всяких приключений. Невероятную популярность он завоевал отчасти дипломатическими успехами, отчасти личной обаятельностью, но большей частью той искренней готовностью, с которой реагировал на чувства и поддерживал интересы соотечественников. Общество знало, что в лице Пальмерстона оно имеет не только хорошего хозяина, но и верного слугу — он был в высшем смысле этого слова слугой народа. Как-то в бытность его премьер-министром он заметил, что на траве в Грин-парке кто-то установил металлические ограды. Он тут же направил приказ ответственному за это министру, в котором в самых нелицеприятных выражениях потребовал немедленно их убрать, заявив, что решетки эти «крайне неприятны» и что трава нужна «для того, чтобы люди, будь то старики или молодые, ради удовольствия которых и содержится этот парк, могли гулять по ней без всякого ограничения». Примерно в том же духе он отстаивал интересы англичан за границей, будучи министром иностранных дел. Для англичан лучшего и пожелать было нельзя, но иностранные правительства относились к этому с меньшим восторгом. Они считали, что Пальмерстон суется не в свои дела, и вообще раздражительный и неприятный человек. В Париже со скрытой ненавистью говорили «се terrible milord Palmerston»[23]; а в Германии вообще сочинили о нем куплет:
Hat der Teufel einen Sohn,
So ist er sicker Palmerston [24].
Но все их жалобы, угрозы и волнения были впустую. Пальмерстон, искривив сардонически верхнюю губу и невзирая на последствия, гнул свою линию.