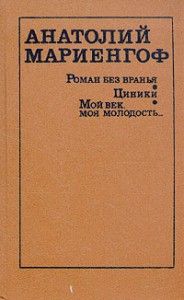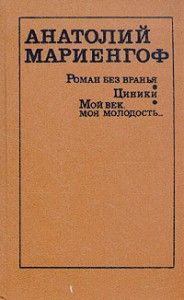Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской
«Любушка, а ты ведь всё-таки не знаешь, как я тебя обожаю!»
«Нынче я тобой наказан, сижу без твоих чудных каракуль. Бог тебе простит это, миленькая!
Скоро ли уже расцелую в горяченькие губы?
Твой».
И вот уже 1959 год на дворе, Мариенгофу — за шестьдесят. И вдруг он сочиняет короткое и жуткое стихотворение.
Как дьявол нынче зла.
— Молчишь?
Снег сбрасывают с крыш.
Весна пришла.
— Что? Влюбилась в кого-то кобла?
— Да.
Может, стихотворение и не к Мартышону обращено, конечно. Но вряд ли…
Вряд ли.
Работать Мариенгоф больше никогда не будет. Они живут на его периодические отчисления с идущих то здесь, то там постановок.
Едва ли не последней его, хоть и скромной, удачей будет пьеса «Рождение поэта», которую всё-таки не запретят, поставят в провинции, отрывки из неё опубликуют в «Пятигорской правде», там же на местном радио сделают на основе пьесы радиопостановку, а в 1959 году переиздадут в книжном варианте. Всё прибыток в семье.
Но главным источником дохода неизбежно была зарплата актрисы Никритиной, которую к тому же будут приглашать время от времени в кино: ещё при жизни Мариенгофа, в 1961 году, она снимется во всенародно любимой ленте «Человек-амфибия», где сыграет мать Зуриты.
Можно представить, как они решили отправиться на премьеру в ближайший кинотеатр.
Мариенгоф еле добрёл — он уже болеет, передвигается только с тросточкой.
Но такое событие пропустить нельзя.
И вот сидят, Тольнюхи, в кинотеатре, радостные, рука в руке, как в юности.
— Мартышон, это ты, что ли? Вот эта тётка? В жизни ты лучше в сорок тысяч раз.
— Да я, я, Длинный, смотри молча.
— Как же я тебя люблю, Мартышка!
— Замолчишь ты или нет, Длинный.
— А когда тебя опять покажут?
Милые, прекрасные люди.
«Плакать хочется» — такая присказка у Есенина была.
РАЗНЫЙ, НО ЕДИНЫЙ
При должном желании, Мариенгофа можно трактовать достаточно вольно. То есть так же, как Пушкина. Как Блока. Как Есенина. Как Мандельштама. У всех названных для любого интерпретатора найдётся по необходимой строке. Чем иные и пользуются.
Продемонстрировать это проще простого.
Мариенгоф — революционный поэт, большевистский подпевала? Конечно же.
Каждый день наш — новая глава Библии.
Каждая страница тысячам поколений будет Великой.
Мы те, о которых скажут:
— Счастливцы в 1917 жили, —
напишет он в 1918 году и чувство почитания к этим дням пронесёт через всю жизнь.
«Невозможно — это не советское слово», — афористично отчеканит Мариенгоф в одной из своих пьес.
Или, может быть, он всё-таки контра? Доказывается на раз. Берём роман «Бритый человек», цитируем: «А не думаете ли вы… что мы сбрили наши русские души вместе с нашими русскими бородами в восемнадцатом году? Не думаете ли вы, что в душе у нас так же гладко, как на подбородке?» Империалист и государственник? Конечно же.
«Шут Балакирев», «Актёр со шпагой», «Совершенная виктория» — безусловные тому доказательства.
Даже саркастическая ода Тредиаковского из «Заговора дураков» звучит как имперская песнь:
Звени, звени, хрустальный альт стаканов —
То льёт восторг покорная держава,
Тебя — сияющей короной увенчанную
Поёт на флейте радостная слава.
Не блеском скипетра и митры и порфиры
Сиять в веках правленью Анны.
Поёт за доброту тебя серебряная лира,
Поют за разум бубны и тимпаны.
Лишь мудрым рулевым ты встала у кормила —
Средь волн бестрепетно поплыл корабль России.
Несчастную страну счастливо воскормили
Твои, Царица, розовые перси.
Сосцы своих грудей, тяжёлых молоком и салом,
Ты вкладывала трём младенцам в нежный рот.
О, Государыня, тебя сосали
Пехота, кавалерия и флот…
Другой любви, иных зачатий пришла весна потом,
И вот — вторично ощенилась сука.
Не ты ли греешь тёплым животом
Политику, искусство и науку.
Или, может быть, наоборот — он человек, возненавидевший это тяжеловесное тысячелетнее государство? И это верно.
Дурацкую мечту поэта
Перетянула золотая
Литая чаша
Империи… —
жалуется Мариенгоф.
Что было мечтой его? Наверное, свобода.
Значит, антисталинист и предвестник «оттепели»?
Конечно, недаром он приводит в книге «Мой век…» разговор с сыном:
«— Неужели, папа, ты всерьёз думаешь, что при нём можно писать?
— О чём ты?.. О ком?.. Не люблю загадок.
Кирка отчеканивает:
— Я тебя спрашиваю, неужели ты не понимаешь, что при нём писать нельзя…»
Может, тогда ещё и русофоб? Ещё бы.
Это его лирический герой в романе «Бритый человек» говорит: «Русский человек? Глупо. Подло. Совершенно лишнее. Неосновательная фантазия природы».
И там же остроумничает про «кукиш, счастливо заменяющий русскому человеку дар остроумия и находчивости».
Это ж его, наконец, стихи:
Исчезни ж, Русь!
Скачурься! смойся! сгинь!
С тобой
Губительной не жажду встречи
Ни во хмелю,
Ни в лёгких снах.
Пусть океан
Ворочается в жолтых берегах.
Пусть камня финского приподнятые плечи,
Пусть ветер, соль
И синь.
Хорошо, пусть так.
Но не русофил ли он, раз на то пошло?
Да, несомненный!
Это он объявит:
Я твой, Россия.
В славе ль ты,
В позоре.
Я тень люблю, что падает на милое лицо.
Это он в ответ на слова Есенина, что у его собратьев по имажинизму «нет чувства родины», сказал: «…имажинизм отныне не формальное учение, а национальное мировоззрение, вытекающее из глубины славянского понимания мёртвой и живой природы своей родины».
Это он за границей признается:
Птицы, звёзды и степи,
Жолтые зори.
И трава.
Тридцать три переедешь моря,
А в сердце:
Пепел
И маленькая Москва.
Это он ещё раз, спустя годы, повторит:
И вот я сердцем холодею:
Трястись куда? Бежать куда?
Когда в косматых Пиренеях
Из Пензы милая звезда.
Это он напишет в поэме «Денис Давыдов»: «Велики великороссы!.. Помяни-ка нас добром!»
Нас!
Это он уже в июле 1941-го отчеканит: