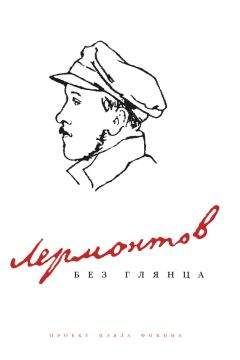Павел Фокин - Цветаева без глянца
Она постоянно читала нам вслух, забирая нас вниз, к себе, от гувернантки (то француженки, то немки). В высокой, зимой холодной «маминой гостиной» с большим книжным шкафом и книжными полками, картинами, с ковром поверх старого холодного паркета, сидя за своим, ореховым письменным столиком, при свете зеленого фарфорового абажура ее — еще с девических лет — лампы, она читала нам свои любимые, еще ее детства книги, — а мы на ковре слушали ее мастерское чтение. Не мы одни: большая перламутровая раковина, сиявшая, как заря, и в которой шумело море. И голубые шары, три — как основа, и на них четвертый, и как ни верти их — все так же: один сверху и снизу три — такие голубые, светлые, темные, такие глубоко голубые, что — синие, как мамино сапфировое кольцо. <…> Раковина была Мусина, шары — мои; затем мы менялись, и счастью нового обладания не было ни дня, ни краю. Так мы менялись всем, все деля. Только одно осталось на все детство: «Ундина» — навек Маринина, «Рустем и Зораб» — мой [15; 11, 25].
Марина Ивановна Цветаева:
О, как мать торопилась, с нотами, с буквами, с «Ундинами», с «Джэн Эйрами», с «Антонами Горемыками», с презрением к физической боли, со Св. Еленой, с одним против всех, с одним — без всех, точно знала, что не успеет, все равно не успеет всего, все равно ничего не успеет, так вот — хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и это еще… Чтобы было чем помянуть! Чтобы сразу накормить — на всю жизнь! Как с первой до последней минуты давала, — и даже давила! — не давая улечься, умяться (нам — успокоиться), заливала и забивала с верхом — впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание — как в уже не вмещающий сундук (кстати оказавшийся бездонным), нечаянно или нарочно: Забивая вглубь — самое ценное — для дольшей сохранности от глаз, про запас, на тот крайний случай, когда уже «все продано», и за последним — нырок в сундук, где, оказывается, еще — всё. Чтобы дно в последнюю минуту, само подавало. (О, неистощимость материнского дна, непрестанность подачи!) Мать точно заживо похоронила себя внутри нас — на вечную жизнь. Как уплотняла нас невидимостями и невесомостями, этим навсегда вытесняя из нас всю весомость и видимость. И какое счастье, что все это было не наука, а Лирика <…>.
После такой матери мне оставалось только одно: стать поэтом [7; 13–14].
Лёра
(сводная сестра Валерия Ивановна Цветаева)
Ариадна Сергеевна Эфрон:
Валерия невзлюбила Марию Александровну с детских лет и навсегда, и если впоследствии разумом что-то и поняла в ней, то сердцем ничего не приняла и не простила: главным же образом — чужеродности самой природы ее собственной своей природе, самой ее человеческой сущности — собственной своей; этого необычайного сплава мятежности и самодисциплины, одержимости и сдержанности, деспотизма и вольнолюбивости, этой безмерной требовательности к себе и к другим и столь несхожего с атмосферой дружелюбной праздничности, царившей в семье при Варваре Дмитриевне, духа аскетизма, насаждавшегося мачехой. Всего этого было через край, все это било через край, не умещаясь в общепринятых тогда рамках. Может быть, не приняла Валерия и сумрачной неженской мощи таланта Марии Александровны, выдающейся пианистки, пришедшего на смену легкому, соловьиному, певческому дару Варвары Дмитриевны. <…>
Искренне любившая отца, Валерия вначале относилась к его младшим дочерям, своим сводным сестрам, с равной благожелательностью; приезжая на каникулы из института и потом, по окончании его, она старалась баловать обеих, «нейтрализовать» строгость и взыскательность Марии Александровны, от которой оставалась независимой, пользуясь в семье полнейшей самостоятельностью, как и ее брат Андрей. На отношение Валерии Ася отвечала со всей непосредственностью, горячей к ней привязанностью; Марина же учуяла в нем подвох: не отвергая Валериных поблажек, пользуясь ее тайным покровительством, она тем самым как бы изменяла матери, ее линии, ее стержню, изменяла самой себе, сбиваясь с трудного пути подчинения долгу на легкую тропу соблазнов — карамелек и чтения книг из Валериной библиотеки [1; 148,149–150].
Анастасия Ивановна Цветаева:
Лёра была на десять лет старше Марины и на двенадцать лет — меня. На семь с лишним лет старше ее родного брата Андрюши. Она никогда нас не обижала, заступалась за нас перед вспыльчивой мамой. С нами шутила, тормошила нас, поддразнивала (меня — за хныканье и заливчатый плач на «и»). Она была — особенная, ни на кого не похожая [15; 37].
Марина Ивановна Цветаева:
Бескровное смуглое лицо, огромные змеино-драгоценные глаза в венце чернейших ресниц, маленький темный сжатый рот, резкий нос навстречу подбородку, — ни национальности, ни возраста у этого лица не было. Ни красоты, ни некрасоты. Это было лицо — ведьмы [7; 37].
Анастасия Ивановна Цветаева:
Из нас она отличала Мусю — за резкую определенность желаний и нежеланий, ум, характер, раннее развитие — и часто пробовала отстоять ее от маминой строгости. Муся платила ей пылкой любовью.
Лёра поселилась на антресолях, в моей бывшей детской, рядом с Андрюшиной комнаткой, через две двери от нашей детской. С мамой у нее бывали нелады; мы чуяли это, не разбираясь в причинах, не понимая их.
<…> Ее комната была — особый мир. Моему уму он был недоступен, но волновал и влек. Муся имела доступ к ее книжному шкапу (мамы ее, чем-то отличавшемуся от всего нашего): невысокий, ореховый, необычной формы, с двумя узкими зеркалами на створках. На полках жили непонятные книги (английские), в них цвели немыслимой красоты цветные картинки. Сердце от них пылало, как те лужайки, озера и Цветущие рощи и облака, — и, раз, по наг стоянию Муси, мы вырезали самое восхитившее, грубым, безвозвратным движением ножниц, причинившим Лёре столько же горя, сколько мечталось счастья от этого — нам! [15; 37]
Марина Ивановна Цветаева:
<…> В комнате Валерии, обернувшись книжным шкафом, стояло древо познания добра и зла, плоды которого — «Девочки» Лухмановой, «Вокруг света на Коршуне» Станюковича, «Катакомбы» Евгении Тур, «Семейство Бор-Раменских» и целые годы журнала «Родник» я так жадно и торопливо, виновато и неудержимо пожирала, оглядываясь на дверь. <…> Но было еще — другое. В Валерииной комнате мною, до семи лет, тайком, рывком, с оглядкой и ослышкой на мать, были прочитаны «Евгений Онегин», «Мазепа», «Русалка», «Барышня-Крестьянка», «Цыганы» — и первый роман моей жизни — «Anais». В ее комнате была любовь, жила — любовь, — и не только ее и к ней, семнадцатилетней: все эти альбомы, записки, пачули, спиритические сеансы, симпатические чернила, репетиторы, репетиции, маскирования в маркиз и вазелинение ресниц — но тут остановка: из глубокого колодца комода, из вороха бархаток, кораллов, вычесанных волос, бумажных цветов, на меня — глазами глядят! — серебряные пилюли. Конфетки — но страшные, пилюли — но серебряные, серебряные съедобные бусы, которые она почему-то так же тайно — загораживаясь спиной и лбом в комод — глотала, как я — лбом в шкаф — «Жемчужины русской поэзии». Однажды меня озарило, что пилюли — ядовитые и что она хочет умереть. От любви, конечно. Потому что ей не дают выйти замуж — за Борис-Иваныча или Альсан-Палча? Или за Стратонова? Или за Айналова? Потому что ее хотят выдать замуж за Михаил-Иваныча Покровского!