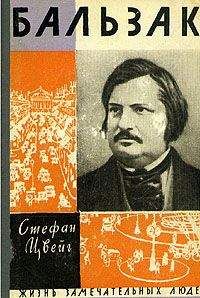Поэты, писатели, безумцы. Литературные биографии - Цвейг Стефан
«Искание Бога»
Меня Бог мучит.
«Есть Бог или нет?» – грозно спрашивает Иван Карамазов в ужасном диалоге своего двойника, черта. Искуситель улыбается. Он не торопится ответить, снять с измученного человека самый трудный вопрос. «Со свирепой настойчивостью» приступает к Сатане Иван в своем исступленном богоискательстве: он должен, он обязан дать ему ответ на этот важнейший вопрос его существования. Но дьявол только подливает масло в огонь нетерпения. «Ей-богу, не знаю», – отвечает он пришедшему в отчаяние человеку. Чтобы помучить, он оставляет вопрос о Боге без ответа, оставляет ему страдания богоискательства.
Все герои Достоевского – и не последний из них он сам – носят в себе Сатану, который задает вопрос о Боге и не отвечает на него. У всех у них «горячее сердце», способное мучиться этими мучительными вопросами. «Веруете вы сами в Бога или нет?» – обрушивается вдруг Ставрогин, другой дьявол в человеческом образе, на кроткого Шатова. Как раскаленное железо, разбойнически вонзает он этот вопрос в его сердце. Шатов отступает. Он дрожит, бледнеет: все искренние люди у Достоевского трепещут перед этим последним признанием (а он – как сам он содрогался в священном страхе!). И только когда Ставрогин настаивает, он лепечет бледными устами отговорку: «Я верую в Россию». И только ради России он признает себя верующим в Бога.
Этот скрытый Бог – проблема всех произведений Достоевского: Бог в нас, Бог вне нас и его воскрешение. Как для «настоящего русского», самого настоящего и самого великого из созданных этим многомиллионным народом, вопрос о Боге и о бессмертии является для него, по его собственному признанию, «первым вопросом и прежде всего». Никто из его героев не может миновать этого вопроса, он прирос к ним, как тень их деяний, – то забегая вперед, то, как раскаяние, прячась за спиной. Они не могут спастись от него, и единственный, кто пытается его отрицать, великий мученик мысли Кириллов в «Бесах», должен убить себя, чтобы убить Бога, – и этим он доказывает с большей страстностью, чем другие, его существование и его неизбежность. Обратите внимание на диалоги Достоевского – как его люди избегают говорить о нем, как они обходят его и увиливают: они хотели бы оставаться на низинах, в легких беседах, в small talk английского романа; они говорят о крепостном праве, о женщинах, о Сикстинской мадонне, о Европе, но какая-то бесконечная сила тяготения давит каждую тему и в конце концов магически вовлекает ее в неизмеримую глубь основного вопроса – вопроса о Боге. Всякий спор у Достоевского кончается русской идеей или идеей Бога, и мы видим, что обе идеи для него тождественны. Русские люди, его люди, не умеют останавливаться ни в своих чувствах, ни в своих мыслях: от практического и реального они неизбежно возносятся к абстрактному, от конечного к бесконечному – всегда они стремятся к концу. И всегда в конце всех вопросов – вопрос о Боге. Это внутренний вихрь, беспощадно вовлекающий в себя их идеи, это гнойная заноза в их теле, вызывающая в душах лихорадку.
Лихорадку! Потому что Бог – Бог Достоевского – первоисточник всякого волнения, ибо он, праотец контраста, есть одновременно и утверждение, и отрицание. Он не похож на картины старых мастеров и писания мистиков, изображавших его кротко парящим над облаками, блаженно созерцающим существом: Бог Достоевского – это искра, сверкающая между электрическими полюсами извечных архиконтрастов; он не существо, а состояние – состояние напряжения, процесс сгорания чувств, он – огонь, он – пламя, поджигающее всех людей и заставляющее их кипеть в экстазе. Он – бич, изгоняющий их из самих себя, из теплого тела – в беспредельность, вызывающий все эксцессы, слова и действия, бросающий их в горящий терновник пороков. Это – как и его люди, как и человек, создавший его, – Бог, не знающий удовлетворения, выдерживающий любое напряжение, не утомляющийся никакой мыслью, не удовлетворяющийся никакой преданностью. Он вечно недосягаем, мука всех мук, – и поэтому из груди Достоевского вырывается крик, вложенный в уста Дмитрия Карамазова: «Меня Бог мучит».
В этом тайна Достоевского: ему нужен Бог, но он его не находит. Иногда ему кажется, что он уже достигает его в своем экстазе, и снова потребность отрицания швыряет его на землю. Никто не познал сильнее его необходимость Бога. «Бог уже потому мне необходим, – говорит он однажды, – что это единственное существо, которое можно вечно любить»; и в другой раз: «Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться перед безмерно великим». Шестьдесят лет томится он «исканием Бога» и любит Бога, как каждое свое страдание, любит его даже больше всех других мук: ибо это самая упорная мука, а любовь к страданью – самая глубокая идея его бытия. Шестьдесят лет он стремится к Богу и, «как трава иссохшая», жаждет веры. Вечно раздвоенный, он просит единства, вечно затравленный – отдыха, вечно гонимый по всем потокам страсти, вечно выходящий из берегов – выхода, покоя, моря. Так он грезит о нем, как об успокоении, а находит его только в пламени. Он хотел бы стать ничтожным, уподобиться косным духом, чтобы войти в него, хотел бы верить слепо – «как семипудовая купчиха», хотел бы отказаться от своего великого познавания, от своей мудрости, чтобы стать верующим; вместе с Верленом он молит: «Donnez-moi de la simplicité!» [41].
Сжечь мозг в чувстве, по-животному тупо успокоиться в Боге – вот его мечта. О, как стремится он ему навстречу! Он буйствует, кричит, выбрасывает гарпуны логики, чтобы поймать его, ставит ему самые смелые капканы доказательств; стрелой взлетает его страсть, чтобы настигнуть его; жажда Бога, «исступленная, почти неприличная жажда» – его любовь, страсть, пароксизм, избыток.
Но стал ли он верующим благодаря своей фантастической жажде веры? Был ли Достоевский, самый красноречивый проповедник правоверия, православия, – был ли он его исповедником, poeta christianissimus? [42] Бесспорно – мгновениями: тогда он судорожно тянется в беспредельность, тогда он в спазмах хватается за Бога, тогда он держит в руках гармонию, недоступную ему в области земного, тогда, распятый на кресте разлада, он воскресает в едином небе. Но все же что-то продолжает в нем бодрствовать и не расплавляется в огне души. В то время как он как будто совершенно растворился в неземном опьянении, жестокий дух анализа недоверчиво стоит настороже, измеряя море, в которое он хочет погрузиться. Неумолимый двойник восстает против стремлений индивида, «неделимого». И в проблеме Бога зияет неизлечимый разлад, заложенный в каждом из нас; но ни один смертный до Достоевского не увидел в нем такую неизмеримую пропасть.
В его душе совмещается великая вера и крайний атеизм. В своих героях он с равной убедительностью показал самые полярные возможности обеих форм (не убедив себя, не придя к какому-нибудь решению) – смирения, преклонения, растворения в Боге, и, с другой стороны, – самой грандиозной противоположности этих чувств – стремления самому стать Богом: «Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам стал Богом, – есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам». И душа его с обоими – с «человеком Божиим» и с отрицателем Бога, с Алешей и с Иваном Карамазовым. Он не выносит решения в церковном соборе своих произведений, он остается и с праведно верующими, и с еретиками. Его вера – жгучий переменный ток между утверждением и отрицанием, между двумя полюсами мира. И перед Богом Достоевский остается великим отверженцем единства.
Так остается он Сизифом, вечно катящим камень к вершине познания, с которой он снова скатывается; вечно стремящимся к Богу, которого он никогда не достигает. Но не ошибаюсь ли я? Не является ли Достоевский перед людьми великим проповедником веры? Разве через его сочинения не проходит великий органный гимн Богу? Не свидетельствуют ли единодушно, повелительно его политические, его литературные произведения с несомненной необходимостью о его существовании? Разве не утверждают они православие? Разве не порицают атеизм как самое ужасное преступление? Но не следует смешивать волю с действительностью, веру с постулатом веры. Достоевский, поэт вечных противоречий, олицетворенный контраст, проповедует веру как необходимость и тем пламеннее проповедует ее другим, чем менее верит сам (в смысле постоянной, несомненной, спокойной, положительной веры, которая считает «тихое умиление» высшим долгом).