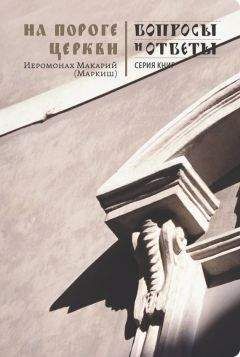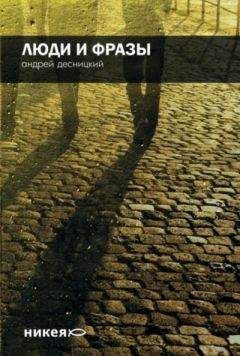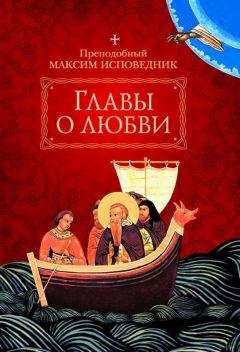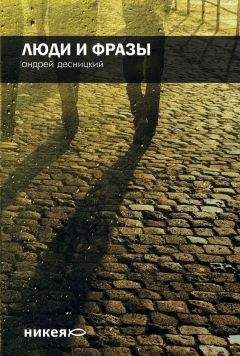Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Прозаические произведения. Литературно-критические статьи. «Арион». Том III
Молва, 1933, № 172, 30 июля, стр. 3. Здесь же помещен выполненный Л. Гомолицким перевод стихотворения Шемплинской «Сантиментальное» («Sentymenty», стр. 27). Воспроизводя в целом близко содержание оригинального текста, перевод, однако, смягчает стилистические резкости оригинала и пользуется более точной, чем у Шемплинской, рифмовкой. См. текст перевода в соответствующем разделе настоящего издания.
Дон-Кихот по сценарию Поля Морана с Ф. И. Шаляпиным в главной роли (Кино мажестик)
1
Одно из лучших впечатлений моего детства – два фолианта в кожаных тисненых переплетах – французский перевод Дон-Кихота, иллюстрированный гравюрами Дорэ.
Помню мир этих гравюр. Фантастический. Реальный. Неповторимый.
Забравшись с ногами на диван, я прятался в широкие страницы непомерной книги. Кожаный переплет раскрывался, как дверь в сказочное царство похождений рыцаря печального образа. Ноги давно отекли от тяжести книги, медленно переливающейся за шелестом страниц с правой стороны на левую, время отдыха между уроками давно прошло, а я всё еще не могу вернуться в самого себя, в свою серую действительность…
Очарование было так сильно, что иногда в детстве я видел странные сны – ожившие гравюры Дорэ к бессмертной книге Сервантеса…
Нынче мой детский сон повторился наяву. Гравюры ожили, но не в сонной грезе, бесследном отражении, тени от тени…
Ожили бессмертно – на кинематографической ленте в картине, которая обойдет мир, прославляя искусство ее творцов.
Когда сеанс окончился, в кинематографе зажегся свет, и густая толпа, переполнявшая зал, встала, стуча откидными сиденьями кресел, заговорила, замелькала перед глазами множеством незнакомых лиц, – впечатление было так сильно и прочно, что я еще слышал голос Шаляпина, еще видел картины, только что потухшие на экране…
И всю дорогу было то же самое… И к этому – еще сознание большого праздника души. Радости, за которую спокоен, что она останется навсегда, ляжет миром на сердце…
То, чего я еще никогда не испытывал после кинематографа.
2
Не знаю, о чем писать раньше. Столько достоинств в этой картине. И все они неотделимы, слиты в единое, нерасторжимое художественное целое.
Ставил и режиссировал картину Пабст, известный французский режиссер, творец не одной «удавшейся» картины{178}. Декоративной частью заведовал при постановке Андреев, должно быть русский{179}.
Идея: кинематограф – оживленная картина, не нова, не раз была испытана и имеет своих защитников и врагов. И может быть, никому еще вот до этой картины Пабста (и даже ему самому в предыдущих его картинах) не удавалось так сделать из плоского мира экрана ряд живых сменяющихся художественных полотен. Дорэ воспроизведен, воскрешен в совершенстве. Не только аксессуары, несколько гравюрный резкий пейзаж, но даже карикатурные лица персонажей изумительно подобраны Пабстом. Где он нашел эти широкие тупые подбородки, усеченные лбы, обнаженные белки глаз? О гриме я уже не говорю. Дон-Кихот – Шаляпин и Санчо-Пансо – Дорвиль точно сошли с гравюр Дорэ{180}. Схожесть дополняется повторениями положений гравюр. Даже пластырь на носу Дон-Кихота положен Пабстом так, как его положил Дорэ.
Всё это составляет неиссякаемый источник наслаждения для глаза. Обильное пиршество. Но чрезмерное обилие вкусного притупляет наслаждение. Альбомом гравюр можно любоваться часами, если не днями, останавливаясь на любой из них, возвращаясь назад к первым листам, бесконечно повторяя их ряд. Но в кинематографе всё бежит, всё мелькает, спеша сменить одно впечатление новым, вытесняя друг друга. Тут не остановишься и не вернешься. И внимание быстро устает. Появляется раздражение. Точно мимо тебя быстро проносят вкусные блюда, только дразня тебя ими…
Нет, я понимаю тех, кто оспаривает верность идеи сделать из кинематографа живую картинную галерею.
3
Сценарий для «Дон-Кихота» писал Поль Моран.
От эпопеи Сервантеса, изрядно ощипанной и подстриженной кинематографом, осталось всего несколько вольно истолкованных эпизодов. Но Поль Моран здесь ни при чем – таковы законы экрана. В общем же идея Дон-Кихота передана на редкость верно.
Обычно авторы сценариев обращаются куда свободнее с великими произведениями литературы. Отрезают голову, прицепляют пестрый мишурный хвост и пускают в таком неузнаваемом виде летать по свету. В «Дон-Кихоте» как раз Поль Моран поступил обратно. Сохранил «голову», отверг мишуру, не заботясь, что, может быть, поступает в ущерб коммерческой стороне дела. И, наверное, бы так оно и было – в ущерб, если бы не имя Шаляпина, как магнит собирающее пыльцу зрителя – многомиллионную толпу.
4
Картина начинается так.
Раскрывается старинный фолиант. Медленно переворачиваются страницы. Готические тяжелые столбцы, старинные заставки и гравюры. И всё это время поет – не поет, – невидимо наполняет зал широкими захлестывающими волнами голос Шаляпина.
Сразу поражает чистота передачи голоса. Обычно кинематограф меняет звук. А здесь не то что не меняет – кажется, Шаляпин незримый, неуловимый поет где-то здесь – около вас, нет – в вас самих.
Потом Шаляпин поет еще несколько раз в ходе действия, но там впечатление ослаблено, и вот чем – театр мешает кинематографу. Шаляпин впервые на экране. Он не ощутил стихии кинематографа. Не понял, что кинематограф – фотография, а потому не терпит театральных ходуль, даже в вершок высотою. Малейшая фальшь разрушает его чары.
Прекрасная сцена, когда Дон-Кихот с Санчо-Пансо отправляются в свет, покидая родной дом, ослаблена тем, что, проезжая по улицам еще спящего городка, Дон-Кихот поет, и пению его аккомпанирует невидимая гитара. Откуда гитара? В кинематографе всё должно быть объяснено. Гитара вносит фальшь. Сцена становится только предлогом к тому, чтобы Шаляпин, знаменитый певец, играя Дон-Кихота, мог спеть перед миром лишнюю арию. Дон-Кихот исчезает. Очарование разрушено.
Игра Шаляпина не свободна от театральности. И там, где он не зависит от Дорэ, где ему дан сценарием собственный жест, он нарушает цельность. Чувствуется фальшь. Исчезает Дон-Кихот, появляется Шаляпин, знаменитость которого не искупает того, что очарование нарушено. Но таких мест немного. Дорэ выручает.
Гораздо лучше (в кинематографическом смысле) справился с ролью Санчо-Пансо – Дорвиль. Он, воскрешая образ Дорэ, внес в него и свое толкование, как бы говоря: «вон каким он был, этот простой крестьянин, ставший оруженосцем странствующего рыцаря. Теперь вы не можете не полюбить его. Ведь он вот, весь на ладони, перед вами, точно вы прожили с ним бок о бок целую жизнь».
Музыка написана для картины Жаком Ибером{181}, но ее «заглушает» голос Шаляпина…
5
Есть одна сцена в этой картине, в которой Дон-Кихот Шаляпина перерастает сухопарого высокопарного Дон-Кихота Дорэ. Иначе и быть не могло, потому что сцена эта точно создана Сервантесом для русского артиста, и, может быть, только ради нее стоило крутить фильм.
Не будь этой сцены – напрасно были бы потрачены усилия всех Пабстов, Моранов и Дорвилей.
Сцена эта, когда Дон-Кихот, умирая перед костром горящих его книг, выздоравливает от своего «рыцарского» безумия. В этот момент артистом вложено столько смысла – безумие его было жизнью, ради безумия стоило жить, а теперь в этом стойле благополучного здорового прозябания нет иного выхода – только смерть – а отсюда: – вся жизнь, м.б., только и расценивается на вес безумия. – И лицо у умирающего Дон-Кихота… это уже не Дорэ.
По силе образа вспомнилось другое страшное лицо – Иоанна Грозного, обнимающего убитого им царевича, в жуткой картине Репина.
6
Горят книги Дон-Кихота на костре мещан, вздумавших излечить от безумия рыцаря Печального образа. Огонь переворачивает страницы фолиантов. Готический шрифт, великолепные гравюры превращаются в пепел. Голос Шаляпина поет, замирая, уходя из зала. Сгорают рыцарские романы, превращаясь в несгораемую вечную книгу Сервантеса.
Так кончается эта замечательная картина…
Молва, 1933, № 204, 7 сентября, стр. 4. См. также: <Л. Гомолицкий?> «Небывалый успех “Дон Кихота”», Молва, 1933, № 212, 16 сентября, стр. 3.
Радио и вечное
Никогда еще, пожалуй, так не приближался человек к раскрытию самых глубинных тайн жизни и смерти, как в наш век торжествующей техники. Первые робкие шаги человека в этой области, казалось, уводили его от всего глубинного к поверхностному. И вот, испытуя материю, техника проникла за ее внешние покровы и приблизилась снова к первобытным тайнам. Приблизилась тесно, до жуткой смежности, уничтожения граней между мирами видимым и невидимым.
Техника – чудо и чудище нашего времени.
Она возносит грохочущие заводами, дрожащие каменными телами небоскребов города – современные Вавилоны, она же изобретает способы уничтожения порожденного ею: производит ядовитые газы, гигантские снаряды, дьявольские игрушки – бросаемые орудиями, низвергаемые с крылатых стальных чудовищ – во славу уничтожения.