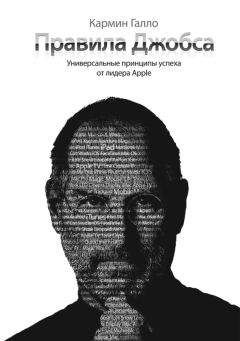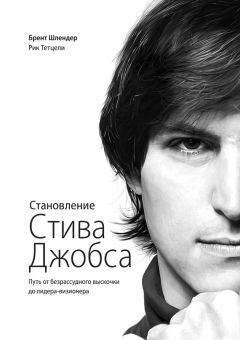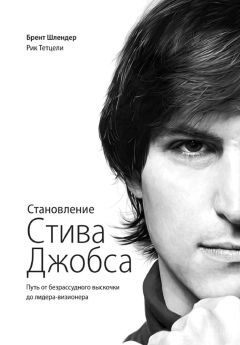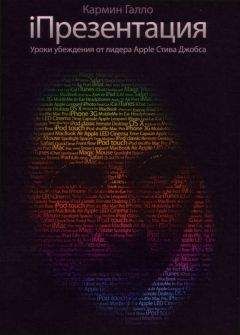Евгений Евтушенко - Волчий паспорт
Крепдешиновая дама, очевидно уверенная, что успешно подготовила меня к согласию на все, что угодно, — лишь бы не посадили, повела меня в другой кабинет — уже гораздо более просторный, где за столом сидел человек, явно более старшего звания, чем она, ибо при нем она прекратила щебет, встала навытяжку, что предательски обнаружило под ее крепдешиновостью офицерскую выправку, а затем испарилась.
Этот человек отнюдь не щебетал, не упражнялся в комплиментах. Он изучающе смотрел на меня — не то чтобы приветливо, не то чтобы устрашающе, но настолько ввинчиваясь в меня двумя голубовато-стальными сверлами тяжких от информированности глаз, что мне стало несколько не по себе.
— Сейчас у нас на Лубянке, как и во всей стране, большие перемены, — с расстановкой сказал он, не уменьшая силы взгляда. — Пришли новые люди. Мы помогаем партии бороться с пережитками культа личности, реабилитируем несправедливо осужденных. По-моему, это вам близко, не правда ли? Но среди людей, которые обеспечивают нас сведениями, слишком много старых кадров. Они привыкли сообщать только то, что от них хотят услышать. Сейчас они растерялись. Они не понима* ют, чего от них хотят. А единственное, чего мы сейчас хотим, — это правды. Ведь именно на основании наших сводок принимаются важнейшие государственные решения. Нам не нужны доносчики. Мы их сами презираем. Мы хотим не доносов, а, по выражению Пушкина, «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Нам нужны свежие, смелые, искренние люди, которые могли бы делиться с нами своими горестными заметами о том, что думает народ, и тем самым помогать народу. Разве в этом есть что-то стыдное? Как вы считаете?
— Я не считаю… — торопливо, хотя и невскладь, поддакнул я, памятуя совет моего старшего друга кивать, словно китайский болванчик.
— Что конкретно вы не считаете? — несколько насторожила хозяина кабинета эта моя нескладность, и я ощутил, что его голубовато-стальные сверла, разрушая со скрежетом мои ребра, ввинчиваются уже мне в кишки.
— Ну, то, что это… ну… стыдно, — промямлил я. И вдруг в моем страхе, липком, как тина, игранула, словно сильная рыба, попавшая из свежей воды в зацвелую заводь, актеринка сибирских перронов, на которых я пел за кусок хлеба, прикидываясь несчастным сироткой: «Где-то в старом глухом городишке Коломбина с друзьями жила», сверканула, как вытащенный из-за голенища финкарь, хулиганинка марьинорощинских футбольных пустырей, где нужно было качнуться всем телом в правую сторону, для того чтобы туда тоже качнулся противник, а потом неожиданно — поперек движения его тела — рвануть влево и всадить веселую «штуку» между ног гостеприимно раскорячившегося вратаря. Я решил выведать все, что они от меня хотят, и начал играть в поддавки.
Я расправил плечи и, понизив голос так, что в нем образовалась доверительная густота, сказал с неожиданной для моего собеседника павликоморозовской готовностью:
— Какой может быть стыд при исполнении гражданского долга?
Собеседник, стараясь скрыть ошеломленность таким быстрым развитием событий и даже, по-моему, чуть раздосадованный оттого, что тонкая ювелирная работа с этим мальчишкой оказалась, по-видимому, ненужной, неподготовленно пробормотал:
— Приятно работать с понимающими людьми.
Затем он сделал паузу и, очевидно потеряв ко мне интерес, небрежно посулил:
— Мы ведь тоже можем вам помочь.
— Чем? — с повышенной оживленностью спросил я.
— Ну, например, с заграничными поездками. Вы, кажется, еще нигде не были. Кстати, не пускают вас не кто иные, как ваши братья-писатели, а сами сваливают на нас. У вас даже стихи, можно сказать, вопиют об этом непускании: «Границы мне мешают. Мне неловко не знать Стамбула, Токио, Нью-Йорка». Я правильно цитирую?
— Не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка, — поправил я.
— Учтем и Буэнос-Айрес, — чуть усмехнулся он. Улыбка ему давалась трудней, чем усмешка. — Но вы, надеюсь, не возражаете против того, чтобы побывать и в Токио, и в Стамбуле?
— А как? — спросил я с непритворным любопытством и с притворным видом человека, решившегося на все — лишь бы наконец вырваться хоть разик за границу.
— Для начала мы вам поможем оформиться официантом на международный круиз какого-нибудь теплохода, — поскучнев, предложил он. Очевидно, ему нравилось разгрызать только крепкие орешки. Зубы у него были не ослепительные, но большие, умеющие похрустеть.
Я молниеносно сообразил, почему некоторые студенты Лит-института в прошлом году сплавали на теплоходе официантами в Индию, и сразу занес их в мой предположительный список стукачей.
— Но поступление информации, разумеется, должно начаться еще на суше, — добавил он и попытался располагающе улыбнуться. — Все, как в издательстве. Вы представляете рукопись, а мы под нее выдаем аванс.
В поскучневших глазах моего собеседника все-таки появилось хотя и ленивое, но любопытство — как я среагирую на прямую покупку.
Я сыграл скрытое разочарование слишком скромной оценкой моего согласия, взяв взаймы с лица собеседника немножко скуки. Я как бы начал деликатно торговаться, намекающе нарисовав лицевыми мускулами выжидание надбавки за патриотическую готовность информировать Родину о грозящих ей опасностях.
Мой собеседник не без профессионального удовольствия засек, что я, оказывается, не так просто «купился», как он брезгливо предполагал. Он снова, кажется, заинтересовался мной, ибо, судя по всему, принадлежал к тем котам, которые любят играть лишь с мышкой, старающейся выкарабкаться из их лап. Попавшись на мой актерский этюд и подозревая, что я могу ускользнуть, он накинул цену, испытующе проворачивая во мне голубовато-стальные сверла.
— У вас есть такая красноречивая строка: «А куда я тебя понесу?» Да, молодым людям порой негде любить друг друга. Отдельные квартиры у нас многие получают только к старости, да и то не всегда… А ведь вы поэт и, судя по стихам, человек влюбчивый… Мы вам могли бы время от времени давать номер в гостинице «Центральная», кстати, рядышком с актерским рестораном. В этом номере вы бы чувствовали себя свободно: и посочинять бы там могли, и поразвлечься. Что это за молодость, если нечего будет вспомнить. Мы боремся с развратом, но ведь разврат и ханжество — это две стороны…
— …одной и той же медали, — подхватил я, доверительно, как единомышленник.
Я изобразил в глазах искорки восторга, якобы предвкушая мои скромные оргии в этой гостинице, где волшебный ключ от отдельного номера мне вручал сам Комитет государственной безопасности — единственное в стране учреждение, сострадальче-ски решившее раз и навсегда мой мучительный вопрос под кодом: «А куда я их всех понесу?»
— А что я должен буду делать? — разыгрывая откровенность уже почти купленного с потрохами осведомителя-интеллектуала, спросил я.
Мой собеседник, только что так неосмотрительно заложивший своих литинститутских стукачей, продолжал неосторожно раскрывать карты в полной уверенности, что сделка уже состоялась:
— Прежде всего — постоянная информация о настроениях писателей, а также ученых, студентов, с которыми вы тесно связаны. Есть и конкретное дело. В ближайшие дни в Москве откроется Всемирный фестиваль молодежи. Пора, конечно, демонтировать железный занавес. Но… на металлолом его еще рановато сдавать. Приедет сразу столько иностранцев, сколько не было в СССР за последние лет тридцать. Кто свое прогрессивное сердце привезет, — он при этом усмехнулся, — кто — сифилис, кто — литературишку пакостную. Мы не против оттепели, но не за слякоть. Чем больше свободы, тем нужно больше контроля за свободой. Нельзя же историю пускать на самотек. Кто станет заниматься всеми гостями фестиваля — черненькими, желтенькими, коричневенькими, серо-буро-малиновыми? Среди них будут молодые писатели из капстран. Займитесь ими.
Походите с ними по ресторанам, поболтайте по душам. Нас интересует то, что они думают. Как говорил Маяковский: «Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым». Кстати, и представительские мы вам выдадим. На шампанское. Вы, кажется, предпочитаете именно этот напиток?
— Откуда вы знаете? — сыграл я застенчивое простодушие.
— Ну, кое-что нам все-таки полагается знать, — тяжеловато отшутился он, явно считая, что дело в шляпе, и уже меня не уважая. Он деловито ускорил темп развития событий, с нарочитой подчеркнутостью взглянув на ручные часы: — Значит, так. Для взаимного удобства вы получите новое имя и, когда будете выходить на связь, соответственно и называйтесь. С вами скон-тактируются. — Он встал, давая понять, что аудиенция окончена. Его голубовато-стальные сверла перестали работать. Он был уверен в том, что просверлил меня насквозь. Руки он не протянул.
Я тоже встал, и тоже не протянул руки. Но я понял, что слегка заигрался в поддавки и пора перевернуть шахматную доску, пока меня не загнали в угол.