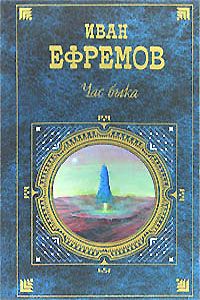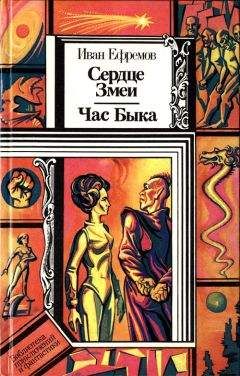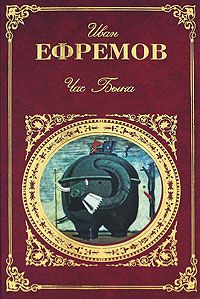Михаил Казовский - Лермонтов и его женщины: украинка, черкешенка, шведка…
Любви туман и сумасбродство
Не посетят меня и вас!
Признавших красоты господство
Мильон страдают и без нас.
При этом она почему-то смотрела на Лермонтова. Михаил подумал, что в течение минувшей недели в женщине произошла какая-то внутренняя работа и Эмилия Карловна сделала для себя определенные выводы – судя по ее взглядам, не в его пользу. Сердце сразу заныло: ах, опять разочарование!
Все происходившее в дальнейшем только подтвердило его догадки: в перерыве репетиции Милли села за столом, чтобы выпить чаю, вдалеке от корнета и демонстративно общалась только с Софьей Николаевной, Лизой и Додо. А когда Михаил попытался проводить ее от крыльца к коляске, попросила этого не делать. Он воскликнул:
– Боже мой, я не понимаю, что случилось! Отчего вы переменились ко мне?
Избегая встретиться с ним взглядом, она холодно ответила:
– Оттого, что так надобно. Вы прекрасно понимаете, почему.
Лермонтов схватил ее за руку.
– Я люблю вас, Милли. Больше всех на свете!
Мусина-Пушкина вырвала руку, выпалила: «Именно поэтому!» – и задохнувшись, побежала к своей коляске.
Он смотрел ей вслед: хрупкая фигурка в светло-синем наряде растворялась в фиолетовых сумерках. Так и счастье его растворяется каждый раз, не давая возможности насладиться им. Отчего судьба столь жестока и несправедлива к нему? Или Серж Трубецкой действительно прав: коли есть один Божий дар – талант, наглость требовать других жизненных даров?
Сразу расхотелось ездить к Карамзиным, репетировать и участвовать в спектакле. Он поделился своей печалью с Монго. Тот сказал:
– Что тут сомневаться? Нет желания – не участвуй.
– Неудобно: я же обещал, на меня рассчитывают, надеются.
– Заболей. Сделай вид, будто заболел.
– Выйдет неубедительно. Нет, нехорошо.
– Подверни ногу. Сядь на гауптвахту.
Михаил оживился.
– Сесть на гауптвахту? Но каким образом?
Друг пожал плечами.
– Не знаю. Завтра, во время смотра, который приедет проводить великий князь Михаил Павлович, чем-нибудь разгневай его. Но несильно, чтобы дал не более недели ареста. Аккурат на время спектакля.
Лермонтов задумался.
– Непорядок во внешнем виде? Михаил Павлович придирается к любой мелочи. В этом он пошел в своего отца – императора Павла Петровича, тот за кривую пуговицу мог в Сибирь сослать.
– Может быть, подстричь эполеты?
– Фи-и, нехорошо, и заметят сразу, не допустят к смотру. Надо что-то такое, чтобы не успели предупредить.
– Заменить саблю?
– Это как?
– Перед самым объездом великим князем строя войск перевесить форменную саблю на неформенную, не по уставу.
– На какую?
– Детскую. Копию взрослой, но короче. И деревянную.
Монго рассмеялся:
– Да, забавно. Но за этакую вольность можно не только на «губу» загреметь, но и звания лишиться.
– Нет, не думаю. Михаил Павлович хоть и суровый командир, но отходчивый. Да и сам пошутить любит.
– Шутка шутке рознь… Больно риск велик. Но арест будет обеспечен, и в спектакле участвовать не будешь наверняка.
– Я еще подумаю.
Чем больше он думал, тем эта затея представлялась ему интереснее и забавнее. В водевиле он играл только ради Милли. А коль скоро она его отвергает, фиглярствовать не хочется.
У хозяйки дома (у нее было трое сыновей – десяти, восьми и шести лет от роду) корнет выпросил игрушечную саблю в ножнах. Завернул ее в холст, чтобы пронести в часть. Предвкушая потеху, веселился и потирал руки…
Михаил Павлович действительно был человеком добрым. Младший внук Екатерины Великой, он воспитывался во всеобщей любви, рос баловником и проказником. Разница между старшим братом – императором Александром I – и ним составляла 21 год, и в войне с Наполеоном Михаил не участвовал по малолетству. Но к моменту воцарения другого брата – Николая I – был уже генерал-инспектором инженерной части.
Сын своего отца, он ценил не столько боевые качества армии, сколько марши, смотры и парады. Объезжал войска регулярно. В Царском Селе он появился по заранее согласованному графику – в воскресенье, 27 сентября 1838 года. Лейб-гвардии Гусарский полк выстроился вначале во фрунт, и кавалеристы сидели на лошадях навытяжку, громогласно приветствуя великого князя. В черном мундире Отдельного гвардейского корпуса, он смотрел на них, чуть насупив брови, как будто что-то бормоча в пегие усы, сросшиеся с бакенбардами. После объезда строя присоединился к свите, которая стояла сбоку на плацу, чтобы посмотреть проезд войска. Грянул оркестр, и гусары, перестроившись в каре, стали молодцевато скакать мимо августейшей особы. Все прошло вроде бы неплохо, но великий князь обратился к командиру полка – генерал-майору Михаилу Григорьевичу Хомутову [44] – в крайнем раздражении:
– Милостивый государь, соблаговолите позвать корнета Лермонтова.
– Слушаюсь, ваше императорское высочество.
Адъютант исполнил приказ и доставил шалопая.
Повернувшись к нему лицом, Михаил Павлович поднял указательный палец в белой перчатке.
– Как сие понять, сударь?
Щелкнув каблуками сапог со шпорами, Лермонтов ответил:
– Не могу знать!
– Как – не можете знать? Что это за сабля на вас?
Все уставились на оружие провинившегося. Кое-кто не особенно сдержанный даже прыснул беззаботным смешком.
Князь побагровел.
– Не хихикать! Молчать! – И опять повернулся к Лермонтову. – Жду ваших разъяснений.
– Виноват, ваше императорское высочество. По ошибке нацепил не ту саблю.
– Как это – не ту?
– Сына моей квартирной хозяйки.
Снова послышались смешки за спиной Михаила Павловича.
– Я велел молчать! – проревел он. – Генерал-майор Хомутов, что у вас творится? То, что корнет ночует у своей квартирной хозяйки, – полбеды, но вот то, что он цепляет детскую саблю, – бог знает что такое!
Все подавленно молчали. Попыхтев в усы, великий князь заключил:
– Объявляю вам, Михаил Григорьевич, строгое предупреждение. От кого-кого, но уж от вас, батенька, я не ожидал… А корнету Лермонтову – девять суток ареста. И потом – месяц без увольнительных. – Он осуждающе покачал головой. – Ишь, разбаловались! Скоро из игрушечных пистолетов стрелять начнут. – Затем отдал честь, но руки никому не подал и убыл в расстроенных чувствах.
Хомутов, коренастый здоровяк, из донских казаков, ревностный служака, но имевший своих любимчиков, Лермонтова в их числе, только многозначительно крякнул.
– Да-с, господин корнет, подвели вы меня под монастырь. Я, конечно, сам люблю пошутить, но для шалостей выбираю время и место. Вы исправно служите, нареканий не имеете, печатаете стихи в столичных журналах – очень недурные стихи: я люблю «Бородино» и «Кавказского пленника». Но такое ребячество ныне – просто ни с чем не сообразно! Ладно бы обычный проезд – но на смотре его императорского высочества?! Объяснитесь, сударь.