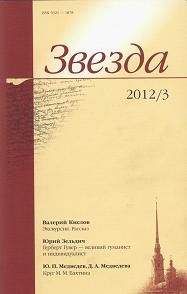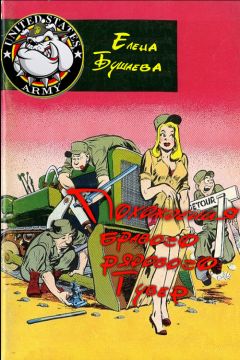Александр Кобринский - Даниил Хармс
Клюев, сложив совсем по-бабьи на животе руки, заговорил, окая и причитая, о погоде, почему-то о льне, гумне и деревенском густом сусле.
Слова его были слепком обстановки и дополняли полати, квашню, бревна, скрывавшие от глаз каменные стены старого петербургского доходного дома. Но вдруг кто-то нажал на рычаг машины времени. Олонецкая изба понеслась в XX век. Бабий, деревенский, окающий голос Клюева мгновенно изменился, по-интеллигентски заграссировал.
— Валери Ларбо, — сказал этот уже совершенно новый, другой, неожиданный Клюев, — Жак Маритен... Читали ли вы, советские студенты? Не читали? Так о чем же с вами говорить? О сочинениях Пантелеймона Романова, что ли?»
...Но вернемся к вечеру ОБЭРИУ.
Персональное приглашение на него выглядело так:
«Дом Печати.
Фонтанка 21.
Пригласительный билет.
Обэриу просит Вас пожаловать на вечер „Три левых часа“
24 янв. 1928 года.
Начало вечера в 71/2 часов.
Печать. Подпись».
Не менее интересен список реквизита, который Хармс предполагал задействовать в постановке спектакля: трехколесный велосипед, куски цветной материи, губная сирена, самовар, два бокала, эспадроны, костыль, счеты, перо, полено и пила, коробочка, фонарь. Отдельно в его записной книжке — черновик отношения в Ленинградское немецкое культурно-просветительское общество с просьбой «отпустить 2 литавры на 22, 23 и 24 января, с ручательством их полной сохранности». Большинство этих реквизитов предназначалось для постановки «Елизаветы Бам».
Последнюю неделю перед вечером шли интенсивные репетиции. 18 января неожиданно возник вопрос о Кропачеве: потребовалось искать ему замену. Видимо, моряк не был уверен в своей возможности принять участие в вечере. Поиски дублера также выпали на долю Хармса, однако, к счастью, всё обошлось и необходимости заменять Кропачева не возникло.
Из хармсовских приготовлений к вечеру «Три левых часа», пожалуй, интересна еще запись в его записной книжке — задание себе самому на 21 января: «Сходить к В. Улитину относительно клаки». О знакомом Хармса Василии Викторовиче Улитине нам, к сожалению, известно немного — в альбоме Хармса сохранилось лишь его стихотворное двустишие, датированное 31 марта 1925 года. Однако неуверенность Хармса в доброжелательности зрителей не случайна. В середине 1920-х борьба разных литературных группировок происходила не на жизнь, а на смерть, и в начале 1928 года такие «традиции» далеко еще не отошли в прошлое. Можно было ожидать всего, чего угодно: от простого освистывания до попыток срыва вечера. Поэтому Хармс решает позаботиться заранее о «группе поддержки», выражаясь современным языком.
Утром 24 января прошел последний репетиционный прогон — прошел без единой помарки. У участников вечера оставалось еще несколько часов для того, чтобы немного отдохнуть и поспать перед выступлением. Но расходились по домам они в весьма грустном настроении: в Доме печати им сообщили, что желающих приобрести билеты почти нет, выручка кассы на тот момент составляла всего несколько рублей...
По воспоминаниям Бахтерева, на вечер он ехал на извозчике с бутылкой столового кислого вина в кармане: на трезвую голову выступать в пустом зале было бы совсем уже мрачно. А на что можно было еще рассчитывать при таком «спросе» на билеты? Однако при подъезде к шуваловскому особняку, где располагался Дом печати, Бахтерева ожидал сюрприз. Извозчик высадил его раньше, так как к зданию подъехать было невозможно — его осаждала толпа, очереди стояли на улице и внутри, касс, конечно, не хватило, и пришлось организовать еще несколько, поставив обычные столы. Зрители как будто сговорились — и пришли покупать билеты непосредственно к 19.30, то есть прямо к тому времени, на которое был назначен вечер. Его начало, разумеется, пришлось переносить более чем на час.
Первый «час» начавшегося вечера — чтение поэтами своих стихов — должен был открывать, как это заявлялось в анонсе, «конферирующий хор». Обэриутам было чрезвычайно важно показать, что в их сообществе нет лидеров, что это — содружество равных. Они понимали, что если выпустить со вступительным словом Хармса или Заболоцкого, то зрители по инерции воспримут их в качестве руководителей группы. Поэтому предполагалось, что на сцену выйдут четверо — Хармс, Заболоцкий, Введенский и Бахтерев — и будут по очереди произносить небольшие фрагменты заранее выученного текста. Таким образом, вступление как бы разбивалось на несколько голосов, ни один из которых не выглядел бы солирующим. Однако за многочисленными организационными и репетиционными хлопотами обэриуты забыли одну «малость»: вступительный текст не только не был выучен, но даже и не был написан... Вспомнили об этом всего минут за десять до начала вечера.
Уже вовсю играл джазовый оркестр. Зрители рассматривали вывешенные произведения художников филоновской школы. После краткого совещания было решено выпустить на сцену, первым самого молодого. Игорю Бахтереву было тогда 20 лет, а выглядел он, по собственному признанию, на 18. По сравнению с уже известными в Петербурге поэтами, Заболоцким, Хармсом, Введенским, Вагиновым, его почти не знали. В этом и заключалась главная идея: в Бахтереве никто не заподозрил бы лидера ОБЭРИУ.
Но что тому было говорить? Ничего не подготовлено, конспекта речи нет. Хармс и Заболоцкий, с которыми Бахтерев спешно пытается посоветоваться, отвечают почти в унисон: говори, что хочешь, значения это не имеет. И тогда Бахтерев вспоминает постановку хлебниковской «сверхповести» «Зангези» в Музее художественной культуры 11 мая 1923 года. Режиссером и сценографом этой постановки был Владимир Татлин, он же сыграл главную роль. Бахтерев хорошо помнил, что Татлин-Зангези произносил трудно воспринимаемые монологи, но публика ему внимала и верила, что перед ней — великий мыслитель и проповедник. Значит, — сделал вывод молодой поэт, — следует говорить еще туманнее, авось тоже поверят.
К слову — постановке Татлина не было суждено достичь успеха. Режиссер сделал всё, что мог, чтобы хлебниковское слово не затемнялось театральной игрой: в качестве актеров он привлек непрофессионалов — большей частью студентов петроградских вузов, ввел в спектакль лекторов-«разъяснителей». И все же трехчасовой спектакль не был воспринят зрителями.
Разумеется, Бахтерев опасался провала. Поэтому его вступительная речь представляла собой почти заумный монолог. Слушали его «с молчаливым недоумением», что позволяло считать задачу выполненной. Самое главное, что не освистали, а всё остальное сами за себя скажут стихи.
За «театрализацию» выступлений поэтов отвечал Дойвбер Левин. Это называлось «оживлением». Хотя поэт оставался обычно один на один с аудиторией, а все «оживляющие» приемы по определению не должны были мешать восприятию текста, затенять его, тем не менее на обэриутских выступлениях всегда присутствовали театрализованные элементы «обрамления». Нужно было заинтриговать зрителя, отвлечь его от привычной процедуры чтения, дать понять, что на их глазах происходит что-то совсем необычное. Поэтому чинного выхода на сцену Хармса зрители не дождались. Вместо него на сцену выехал черный лакированный шкаф, который толкали находившиеся внутри брат Игоря Бахтерева с приятелем, сам же Хармс восседал сверху.