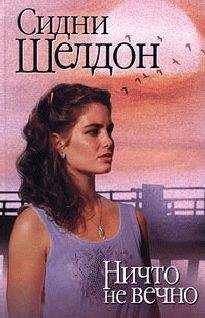Виктор Васильев - Сергей Лемешев. Лучший тенор Большого
С большим «нажимом», почти в опереточном стиле, была поставлена сцена обольщения Додона Шемаханской царицей: эту сцену мы между собой прозвали «дуэтом Татьяны Бах и Ярона».
Моя роль была особенно трудная в вокальном отношении: очень высокая по тесситуре, партия Звездочета написана для тенора altino или для голоса, имеющего крепкий микст на верхних нотах: до, ре, ми третьей октавы там встречаются запросто, как рабочие ноты. Например, во фразе «и попробовать жениться» надо перейти с ля второй октавы на ми третьей, да еще подержать ее на фермате. Это очень хорошо делал С. Юдин. Я тоже старался не очень отставать, что потребовало большой работы над овладением тесситурой. Но главное было – донести замечательный текст, раскрыть смысл этого далеко не сразу понятного образа.
В результате первая моя новая работа в Большом театре, которая могла бы принести мне большую пользу и удовлетворение, вызвала лишь разочарование. Опера была настолько сценически искалечена, убита, что музыкальные ее красоты, умная ирония и мудрый смысл во многом оказались недоступными для слушателей. В результате пришлось нашего милого «Петушка» прикончить на втором году его существования. Смертный приговор вынесли сами зрители – они просто не стали посещать спектакль. Мне, как, наверное, и другим участникам, было очень жаль, что большая работа, проделанная нами под руководством Голованова, над овладением музыкальными трудностями, над великолепным словом, которое в «Золотом петушке» имеет особую важность, так и погибла без возврата <…>
Следующей моей работой была партия Филипетто (1934) в итальянской комической опере Вольф-Феррари «Четыре деспота» по комедии Гольдони. Заглавные роли деспотов пели: четыре баса: Ал. Пирогов (его дублер – В. Лубенцов), Б. Бугайский, С. Красовский и А. Пирогов-Окский. Их жены (которых пели Г. Жуковская, А. Соловьева, Е. Сливинская, Е. Амборская), наперекор мужьям, хотят поженить Филипетто и Лючетту (ее партию пели Е. Катульская и А. Тимошаева). Чтобы все же увидеть свою будущую жену, юноша, переодевшись в женское платье, тайком приходит в дом невесты. Сценически эта работа увлекла меня: в ней много было веселых, занимательных положений, ансамблевых эпизодов. Но музыка не принесла полного удовлетворения. Это был «проходной» спектакль, не занявший сколько-нибудь серьезного места в жизни театра и его артистов.
Наибольший интерес в эти годы вызвала у меня новая постановка «Севильского цирюльника», осуществленная под руководством Л. Баратова. Альмавиву я уже пел в Свердловске, Харбине, Тбилиси. И хотя, если читатель помнит, мне пришлось в первый свой сезон в Свердловске выучить эту партию в две недели и петь спектакль с одной репетиции, перед композитором я был почти безгрешен. Я пишу «почти» потому, что абсолютно точно спеть партию Альмавивы со всеми ее невероятно сложными техническими пассажами просто невозможно. Это под силу разве только легкому колоратурному сопрано. По крайней мере, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из теноров эту партию спел так, как она написана. Поэтому установились определенные традиции в «адаптации» партии. Так пел и я своего Альмавиву. И с какими бы дирижерами потом ни встречался, в музыкальном исполнении ничего не менял: партия была выучена добросовестно. Григорий Степанович Пирогов, с которым я пел свой первый спектакль, лишь отечески меня напутствовал:
– Только пой больше, Сережа.
Сценически же я над образом работал мало – в этом отношении опера Россини была одной из самых «беспризорных». Внимание режиссеров она привлекала редко и, будучи «самоигральной», обычно полностью отдавалась на откуп «самодеятельности» артистов. Каждый исполнитель придумывал свои замысловатые трюки и словно соревновался с партнерами – кто больше всех нанесет в спектакль «мусора». Я встречал это на всех сценах, в том числе, к сожалению, и в Большом театре. Почему-то считается, что главное в этом спектакле – во что бы то ни стало вызвать смех публики. Этим увлекались многие. Начал «трюкачить» и я. Впервые появляясь в доме Бартоло под видом пьяного офицера, я старался как можно громче стучать шпагой по мебели. Один раз так сильно грохнул по мягкому дивану, что от него пыль столбом пошла: за этой «завесой» и меня, вероятно, не было видно. Публика хохотала, и я был доволен.
Но Леонид Васильевич навел порядок. Он сам работал с большим увлечением и увлекал других. Мне очень захотелось заново продумать роль, найти более тонкие нюансы, сценические детали. Так, например, я решил, что более естественно и вместе с тем эффектно будет, если канцону я спою под собственный аккомпанемент на гитаре (а не как обычно, под аккомпанемент арфы). И вот, уезжая на летний отдых в деревню, я купил в комиссионном магазине гитару, раздобыл самоучитель и отправился тренироваться. Осваивал эту не очень сложную премудрость в течение всего отпуска, занимаясь понемногу, но ежедневно. И когда осенью мы собрались на первую оркестровую репетицию «Севильского цирюльника», я попросил Л. Штейнберга, руководившего спектаклем, разрешения спеть канцону под гитару. Иронически улыбаясь, он разрешил…
– А ну давай попробуем, что выйдет.
Но когда я спел, это было признано удачным, и гитара осталась на многие годы. Помню, вскоре и другой Альмавива – Алексеев – тоже стал петь под гитару; сначала за него играли за сценой, а затем и он сам освоил эту нехитрую науку.
Постановка в целом была очень удачна и по составу исполнителей, и по интересным, остроумным мизансценам.
Заискрилась новыми красками роль Фигаро в блестящем исполнении Дм. Головина. Первый же его выход брал зрителя в плен могучим певческим и артистическим темпераментом талантливого певца. Однако его Фигаро не подавлял Альмавивы, как обычно случалось в первом действии. Баратов помог нам, тенорам, сделать графа Альмавиву интересной личностью, подчеркнув его тонкую иронию, обаяние, остроумие, прекрасные манеры и, конечно, его страстную влюбленность в Розину. Спектакль проходил живо, весело, чему немало способствовали А. Пирогов – Дон Базилио, Е. Катульская, В. Барсова – Розина, бессменный Бартоло – Я. Малышев. Это был подлинно виртуозный в музыкальном и сценическом отношении спектакль, где исполнители словно состязались друг с другом в блестящем пении, осмысленной, живой игре. И для меня участие в этой постановке явилось настоящей школой оперного мастерства. После Ленского, во многом сделанного со Станиславским, Альмавива в Большом театре стал для меня первой настоящей ролью, а не партией.
Постановка Баратова продержалась почти целое десятилетие. Однако после того как режиссер перестал следить за спектаклем, он опять оброс отсебятинами и утратил свою первоначальную художественную форму. Желание вызвать положительную реакцию зрительного зала, рассмешить, повеселить часто приводило к тому, что исполнитель терял чувство художественной меры.