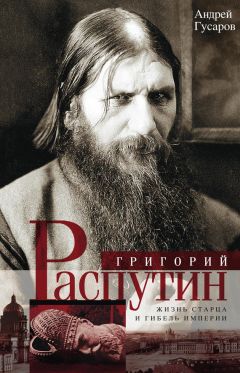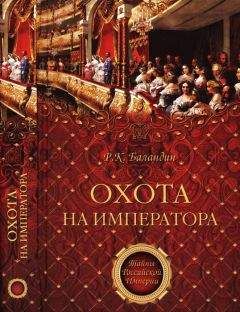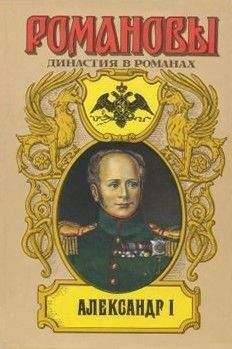Анатоль Абрагам - Время вспять
Можно было простить ей эту маленькую слабость, тем более, чтоона была умным и прямым человеком, чего я бы не сказал проее мужа. Он продолжал работать в Гренобле и приезжал на уикенды".
Мы прожили в Ла Ферьер четыре месяца мирно, но неспокойно. Немиы уже показывались в долине, хотя до сих пор не выше Альвара (Allevard), городка километров на десять ниже Ла Ферьер. Кроме Поло и меня, других евреев в Ла Ферьер не было, и, хотя он появлялся каждое воскресенье со старшей дочерью на обедне в церкви (жена его отказалась принимать участие в этом маскараде), сомневаюсь, что этим он ввел кого-нибудь в заблуждение. Работая в полях с крестьянами, которым принадлежал наш дом, я познал радости земледелия в горах. Они выращивали картошку на крутом склоне, и каждый год надо было на своей спине таскать, с нижней борозды на верхнюю, весь чернозем, соскользнувший вниз за год. Для их мула это было слишком круто. Даже Сюзан, выросшая на ферме и привыкшая к тяжелой работе в полях, ничего подобного не видала. Остальное время я занимался Курантом и Гильбертом и Бурбаки. Красота Бурбаки в том, что в отличие от традиционной математики можно проделывать все упражнения в уме, не нуждаясь в пере и бумаге, что я и делал с большим удовольствием, прогуливаясь в горах.
Но в начале июня 1944 года что-то произошло. Однажды утром (это было в воскресенье, и я был еще в стели) я услышал отчаянный крик мамы: "Толя, немцы!" Я подскочил к окну и увидел, что улица, на которую оно выходило, была заполнена немецкими солдатами. Я начал торопливо одеваться, к великому удивлению Сюзан, которая не понимала, что происходит, потому что мама крикнула по-русски и я не сразу спохватился ей перевести. Я выбежал через заднюю дверь, за которой шла тропинка в горы. Эту тропинку я давно присмотрел для такого случая. Поло следовал за мной. В эту минуту я увидел между горами и мной отряд других солдат, развернувшихся полукругом со штыками наперевес. Я точно помню слова, которые промелькнули у меня в голове: "Je suis fait comme un rat" (я давно уже думал по-французски), т. е. "попался, как крыса". Вдруг я увидел метрах в тридцати перед собой деревянную клетушку и юркнул туда, как кролик в норку, Поло за мной. На двери был ключ, я протянул руку, вынул ключ и заперся с Поло изнутри. Воспоминания о дне, который я провел там в его обществе, не из приятных. Помню, через некоторое время он начал громко икать. У нас говорят, чтобы прекратить икоту, надо хорошенько испугать икающего. В данном случае это средство не подходило. Довольно странно, что его испуг придал мне то спокойствие, в котором я сам так нуждался. Но когда невидимая рука повернула снаружи ручку двери (тщетно, так как я запер ее изнутри), мне показалось, что мое сердце разорвется. Пришелец ушел… и больше не возвращался. Позже возникла еще одна проблема. Но глиняный пол нашей клетушки это исключал, потому что был с наклоном к двери и нас могла бы выдать предательская струйка. Я заметил в углу несколько пыльных пустых бутылок и предложил ими воспользоваться. Могу поделиться опытом со своими читателями мужского пола: в бутылку неудобно, но возможно. Наконец, когда стемнело, я услышал голос Сюзан. Она громко распевала: "Ослик, кролик, песик, мышь", — русские слова, которым я ее обучил, когда ухаживал за ней в Сен-Рафаэле (дальше этого она так и не пошла). Она давала мне знать, что немцы ушли и путь свободен. Было ясно, что мужчинам — Поло и мне — оставаться в доме опасно; немцы могли вернуться когда угодно. Я не знаю, куда уехал Поло, я его больше никогда не видел, но знаю, что он уцелел. Полагаю, что воспоминания о дне, проведенном вместе со мной в клетушке, ему были так же неприятны, как и мне. На следующий день Сюзан и я оставили Ла Ферьер и перебрались в полузаброшенный уединенный дом в горах, скорее в хижину, в крошечной деревушке, метров на 500 выше Ла Ферьер, прозванной Бюрден (Burdin). Мама осталась внизу с мадам Поло и ее детьми. Через пару дней мы увидели маму в нашем Бюрдене. В те дни, несмотря на свои шестьдесят пять лет, она была еще совсем бодрой и вскарабкалась к нам без большого труда. У нее были слезы на глазах, но это были слезы радости. Она пришла нам сказать, что союзники высадились в Нормандии. Это было шестого июня 1944 года. Мы решили никуда пока не двигаться. Можно было опасаться новых набегов немцев и их ненавистных сообщников из милиции. До 15 августа мы провели с Сюзан в хижине два идиллических месяца, прерванные только раз на три дня умственной деятельностью, о которой речь пойдет дальше. Водопровода в нашем убежище, конечно, не было, и мы ходили за водой к роднику, из которого струилась вкуснейшая вода, которую я когда-либо пил. Пищу готовили в очаге на хворосте, который собирали недалеко от дома. Для освещения у нас была свечка, которой мы пользовались мало, потому что сумерки наступали поздно, а спать мы ложились рано. Спали на матраце из соломы, который надо было хорошенько перетряхивать каждое утро. Мы завели курицу, которую я прозвал Гюдюль (Gudule) по имени старой церковной служанки из книги Анатоля Франса. Сюзан кормила ее корками сыра, подгнившим рисом, которого у нас было два-три пакета, и объедками. И Гюдюль неслась отлично. Она любила стоять на пороге и прислушиваться к тому, что мы говорили. Мама утверждала, что она шпионка и доносит все разговоры в гестапо. К сожалению, мы решили "принести ее в жертву на алтарь" союзных успехов и были страшно разочарованы. Интенсивная кладка яиц нашей Гюдюль истощила ее так, что под пышным оперением мы нашли только кожу да кости. Мы ходили в лес собирать лисички, землянику и, главным образом, чернику, которая росла в невероятном количестве. С помощью приспособленных для этого ящичков, так называемых гребешков, можно было собрать кило черники за несколько минут. Собирание лисичек, прятавшихся во мху, требовало большего внимания и настойчивости. Помню, что вначале, в то самое место, которое, как нам казалось, мы очистили от грибов, пришла крестьянка и собрала больше фунта лисичек. Во время этого идиллического существования я иногда спрашивал себя, не подобало ли мне примкнуть к ближайшему маки, члены которого все чаще разгуливали с автоматами по тропинкам и даже показывались на дорогах. Но, насколько я мог судить, их главное и, пожалуй, единственное занятие заключалось в пребывании в маки вместо работы в СОТ в Германии (не желая обобщать, говорю только про тех маки, которых видел вокруг себя), что, конечно, тоже было похвально. Так как я, пребывая в Бюрдене, тоже бойкотировал СОТ (хотя меня господа гитлеровцы предназначали вовсе не для СОТ, а для кое-чего похуже), я не видел необходимости спать в маки вместо своей постели. Теперь о том умственном занятии, о котором говорил раньше. Пришел срок экзамена за курс высшего анализа, на который я записался в Гренобле. Проделав в уме все упражнения из книги Бурбаки, я чувствовал себя хорошо подготовленным и решил сдавать экзамен в Гренобле. я знал, что это опасно. Автобусы, следующие в Гренобль, часто проверялись жандармами "Виши" или членами милиции, и, кроме того, в Гренобле сами немцы все время устраивали облавы. Опаснее всего были окрестности университета. я человек покладистый и обыкновенно легко уступаю, но на этот раз ни мама, ни Сюзан не смогли меня отговорить. Какой-нибудь психолог может вообразить в этом безрассудном поступке желание доказать свою храбрость и искупить свое отсутствие в рядах маки, но вряд ли это так. По-моему, я просто хотел выдержать экзамен, к которому чувствовал себя прекрасно подготовленным. Точно так же в моей попытке попасть на военный корабль в ноябре 1942 года единственным побуждением было желание воевать с Гитлером. "Хорошо", — сказала Сюзан, — "тогда я тоже не останусь здесь, а поеду с тобой." У знакомой Гликманов была маленькая комнатка в Гренобле, нам достали ключ от нее. По дороге в Гренобль ничего не случилось, и мы легко нашли нашу комнатку, скорее каморку. Кровать была совсем узенькая, и мы придвинули ее к стене, чтобы не упасть ночью. На следующий день по дороге в университет опять все обошлось благополучно. Утром был письменный экзамен по топологии, а после обеда — по интегральным уравнениям. На каждом было по задаче, которые я легко решил. Но на обратном пути я чуть не попался в руки немецкому патрулю, который не спеша приближался ко мне с другого конца улицы. Мне удалось убежать, скрывшись в поперечном переулке, которых в Гренобле много, и вынырнув на другой улице. Через день был устный экзамен. я был принят первым с отметкой "отлично", что польстило моему помятому честолюбию. Месяц спустя, 15 августа, мы услышали по радио о высадке французских и американских войск на Средиземноморском побережье (между прочим, в нашем Сен-Рафаэле). На следующее утро я увидел на главной улице Ла Ферьер военного в форме французского лейтенанта. Его появление в Ла Ферьер через день после высадки на юге мне показалось чудом. На самом деле он был партизаном, членом ФВС (Французских внутренних сил). я воспользовался тем, что у меня на голове был берет, чтобы отдать ему честь, и выразил желание примкнуть к его отряду. Он велел мне прийти с вещами после обеда. я объявил маме и Сюзан о своем решении, которое было принято без восторга, но и безпротестов (в отличие от предыдущего моего заявления о желании сдать экзамен в Гренобле). Кончились годы "зеленой плесени". Начинался второй военный год, которому, если не считать "счастливого конца", было суждено оказаться таким же нелепым, как и первый. Вторая службаЗачем полез он на эту галеру? МольерДоброволец. — История заикается. — Нашивки расцветают. — Боец отдыхаетЭтот нелепый год вызывает у меня чувство раздражения. Оно покрывает мои воспоминания туманом, который я постараюсь сеять, чтобы изгнать то, что под ним кроется. Ничего трагического или постыдного, но, как я сказал, нелепое. В этот день августа 1944 года, вооруженный предметами первой необходимости (в том числе вторым томом Бурбаки), я находился с группой молодых jqq. дей перед мэрией Ла Ферьер. Лейтенант Росси (военная кличка) пригласил нас в открытый грузовик, в котором мы и отправились в Фон-де-Франс знакомой мне дорогой. Там вагонетка подняла нас на верхушку массива Сет-Ло, где я никогда не был раньше и где я увидел постройки, принадлежавшие альпийской электростанции, которые в настоящее время служили казармами для сотни представителей ФВС. я сообщил необходимые сведения о себе: фамилию (я мог выбрать военную кличку, но не пожелал), адрес ближайших родственников и военный опыт. Узнав, что я служил в артиллерии, мне обещали перевести меня туда позже. я подписал бумагу о добровольном поступлении на военную службу на шесть месяцев, которую должна была позже закрепить регулярная армия. Нас прекрасно обмундировали — в кожаные куртки на молнии, зеленые лыжные брюки и лыжные бутсы, которые поступили к нам со складов лагерей для молодежи, основанных правительством "Виши". (я и не подозревал о существовании такой организации.) Мне выдали английский автомат "стэн" с одной обоймой и две ручные гранаты. Инструкций, как ими пользоваться, не было, и я решил, что это всем известно. Мне же показал, как пользоваться "стэном", мой сосед — здоровенный дядя, понюхавший пороху в интернациональных бригадах в Испании (гранаты были мне знакомы по Фонтенбло). Вокруг лагеря поставили караул. Несколько раз стоял в карауле и я с автоматом в руках и гранатами за поясом, готовый швырнуть во врага гранату или дать очередь из автомата, но никто не подвернулся. Кроме этого никто абсолютно ничего не делал, и я скоро стал скучать, спрашивая себя: "На кой черт я сюда полез?!"Дней через десять нам дали отпуск на двое суток. Куртка и лыжные штаны очень понравились моим дамам, но мама захотела узнать, не могло ли мое оружие нечаянно выстрелить. Я ее успокоил, сказав, что, пока в гранату вставлен предохранитель, а в автомат не вставлена обойма, оба предмета совершенно безопасны. В лагере нам устроили практику по стрельбе из "стэна", и каждый из нас расстрелял по обойме. А один из нас, очевидно, забыв правила безопасности, о которых я докладывал маме, ухитрился прострелить себе ногу. Потом нас рассадили по грузовикам и отправили, как мне кажется, в массив У азан (Massif de l'Oisans) (но воспоминания у меня смутные). По обеим сторонам дороги стояли приветствующие нас толпы людей, но нам не нравилось, что они принимали нас за американцев и настойчиво требовали сигарет и жевательной резинки. Мы бросали им деревянные кубики, которыми "питались" двигатели наших доморощенных грузовиков. Люди кидались на кубики, принимая ихиздали за американские дары. Через некоторое время меня перевели в артиллерию. "Артиллерия" состояла из одной трофейной немецкой противотанковой пушки. Четыре снаряда, которые достались нам вместе с пушкой, мы скоро расстреляли на учениях. В октябре я получил отпуск на три дня, и мы с Сюзан, наконец, поженились. Помню, что месяц я провел в форте над Бриансоном (Briancon) У итальянской границы и что туда однажды попал снаряд миномета, не причинив никому вреда. Я сходил с ума от скуки. Все это было несерьезно. Ведь были же где-то люди, которые дрались с немцами! Но где? Вокруг меня множились офицеры ФВС с внушительным числом нашивок на рукавах. (На плечи нашивки перекочевали только к концу войны.) Они беспокоились, будут ли эти нашивки признаны регулярной армией. Я охотно верю, что некоторые из нашивок были заслужены в бою, но вряд ли все; уж очень много их было. Есть даже анекдот, что на смотре войск ФВС генералом Де Голлем один офицер выделился среди всех одной единственной нашивкой на рукаве. "Вы что, шить не умеете?" — спросил его генерал. Вскоре все офицерские чины ФВС были объявлены "фиктивными", хотя никто не знал, что это означает. Во всяком случае, я, двадцатидевятилетний старший капрал, плевать хотел на нашивки. Мне только жалко было драгоценного невозвратимого времени. В конце концов, кажется, в декабре 1944 меня вызвал артиллерийский подполковник Беранже (Bйrenger) и объяснил, что стране нужна новая армия, основой которой будут ФВС и что бойцы ФВС (я уже стал бойцом ФВС) должны вернуться к учебе, т. е. в моем случае в артиллерийское училище, в котором будут коваться новые кадры новой армии. (Училище, которое возглавлял он сам, находилось в Лионе (Lyon) в казарме Лион-Ла-Дуа (Lyon-la-Doua).) Я возразил, что пошел добровольцем, чтобы драться с немцами. Он ответил: "Не беспокойтесь, война продлится еще долго, придет и ваша очередь драться с немцами". При мысли, что придется проделать снова все, что я делал четыре года тому назад, я впал в уныние и решил, дождавшись конца моего шестимесячного обязательства, вернуться домой. Я сделал еще одну — последнюю — попытку (в высшей степени незаконную), чтобы попасть в настоящую армию, ту, которая воевала с немцами. Увидев на обочине батарею "стопяток" (они заменили наши "семидесятипятки" и были американского происхождения) на пути к фронту, я обратился к командиру: "Мой капитан, я окончил артиллерийское училище в Фонтенбло в 1940 году, не возьмете ли вы меня с собой?" Он ответил: "У меня полный комплект, но, пожалуй, найдется место для подносчика". Здесь я должен пояснить, что прислуга полевого орудия состоит из шести бойцов в следующем порядке: двое, своего рода патриции, — это наводчик, который наводит орудие, и установщик детонатора, который вооружает снаряд надлежащим взрывателем; двое классом пониже — заряжающий и стреляющий, и, наконец, два плебея — подносчики. От них требовались не мозги, а мышцы. По приказу наводчика они поворачивали лафет, по приказу подрывника таскали снаряды (у "стопяток" они были еще тяжелее, чем у " семидесятипяток"). Моя жажда битвы оказалась преодолимой — интеллигент и сноб, я не пошел в подносчики. С тяжелым сердцем отправился я в Лион-Ла-Дуа, где меня опять стали учить всему тому, что я проходил в Немуре и Фонтенбло. Единственным различием было то, что даже французских "семидесятипяток" нам не дали; их заменили трофейными итальянскими. Многие из моих товарищей были кадровыми унтер-офицерами маленькой армии, которую Франция сохранила по условиям перемирия 1940 года. Для них наше училище представляло неожиданную возможность выйти в офицеры, и они все зубрили, как окаянные. Но один из товарищей, с которым я подружился, был совсем другого рода. Он был из ФВС, но, в отличие от других, присвоил себе, я думаю в насмешку, чин старшего сержанта. Культурный парень, он был лиценциатом философии и часто бывал навеселе. Однажды, когда наш капитан заорал на него: "Почему старший сержант не на посту?!", — он хладнокровно ответил: "Я фиктивный старший сержант и стою на посту фиктивно". Прошли мои шесть месяцев, я явился к подполковнику Беранже и объяснил, что мне тридцать лет и пора подумать о будущем, и что я не желаю возобновлять мой контракт с армией. Меня отпустили. Я вернулся в Ла Ферьер с твердым намереньем подготовиться к штатской жизни. А два дня спустя получил повестку от военных властей Гренобля, в списках которых, после моего несчастного добровольчества, я теперь числился как старший капрал запаса. Запасники призывались служить в охране лагеря, который открывался в окрестности Гренобля. Никто не знал, предназначается ли лагерь для немецких пленных или станет временным центром для освобожденных французских пленных, но пока в нем никого не было за исключением меня и еще дюжины несчастных запасников примерно моего возраста. Это было хуже Лион-ла-Дуа, и я тут же написал подполковнику Беранже трогательное письмо с просьбой освободить опытного и одаренного артиллериста от унизительной должности охранника и взять меня обратно. Он вызволил меня оттуда с необычайной скоростью, я вернулся в училище и окончил его одним из "первых" в чине юнкера. Мы отпраздновали окончание училиша, и к этому случаю я сочинил поэму, которую можно было распевать на мотив песни, хорошо знакомой и теперь студентам медикам, о "Каролине гулящей". Мне запомнилась только одна (цензурная) строфа про трофейные итальянские "семидесятипятки", которая по-русски звучала бы приблизительно так: Нам итальянцы подарили Средневековую пищаль. Они ей сарацинов били, А мы ей славно палим вдаль."Пищаль" на самом деле палила на слаЕу. Это была хорошая пушка, и на экзамене я сбил объект на полигоне в два выстрела, опередив всех. Надо сказать, что, во-первых, у меня было вдвое больше опыта, чем у других, а во-вторых, у меня была дальнозоркость (за что расплачиваюсь на старости лет). По окончании курса нас послали в Эльзас с 4-й МГД (Марокканской горной дивизией). Это была моя первая встреча с войсками, которые воевали с немцами по-настоящему. Я провел два дня на наблюдательном пункте, где в меня никто не стрелял, но где я командовал стрельбой по объекту, который капитан указал мне на карте. Он уверял, что я добился попадания, хотя, как он мог это увидеть, я не знаю. Я хорошо видел вдаль, но не заметил попадания. Затем 4-ю МГД послали на отдых в Мюлуз. Я не знаю, как Мюлуз выглядит в мирное время, но тогда там была страшная тоска. Среди моих обязанностей меньше всего мне нравилась обязанность командовать патрулем: расхаживать вечером но улицам с четырьмя бойцами в шлемах и под ружьем в поисках пьяных или хулиганящих солдат и забирать их в казармы. Никогда я не был так рад, что спиртные напитки запрещены исламом. Среди всех марокканцев, грозных воинов, только что вернувшихся с итальянского фронта, где они участвовали в жестоких сражениях, дрались с немцами, я не увидел ни одного пьяного. В обязанности патруля входило также контролировать другой порок, дозволенный исламом. Вот почему однажды я оказался со своим патрулем у входа в заведение, предназначенное для марокканских войск, с наказом блюсти порядок. Мне ни разу не пришлось вмешаться. Солдаты смирно стояли в очереди, странно молчаливые и спокойные, и мне невольно вспомнились такие же марокканцы, так же спокойно дожидавшиеся своей очереди, которые так поразили меня двадцать лет тому назад. Жутко! После Мюлуза меня послали в гарнизон в Белле (Belley), тихий провинциальный городок, где я зажил безмятежно в ожидании демобилизации. Обязанности мои были не обременительными, начальство оставляло меня в покое, демобилизации ждали все (кроме кадровых). Местность Белле славилась своей гастрономией, и с бывшими товарищами из Лион-ла-Дуа у нас было несколько незабываемых пирушек. Я открыл с ними обычай "пить девочек по метру". Это требует объяснения. "Девочками" (fillettes) там назывались бутылочки весьма приятного местного белого вина. Пустые же бутылочки расставлялись на столе в ряд, пока длина ряда не достигала (или не превышала) метра. За то время у меня произошла только одна маленькая размолвка с артиллерийским майором, но чтобы объяснить, в чем было дело, я должен прежде прочесть краткий курс артиллерии. В артиллерии различали (я употребляю прошедшее время, потому что не знаю, что они делают теперь) стрельбу "ударного действия", где взрыватель взрывает снаряд при попадании в цель, и стрельбу "дистанционного действия", где взрыватель вызывает взрыв на заданной высоте над целью. В мое время это регулировалось длительностью сгорания пороха во взрывателе и было обязанностью патриция № 2 орудийной прислуги — подрывника. Мы только что получили новейшие взрыватели, действовавшие "по близости", вкоторых расстояние между снарядом и целью измерялось автоматически, и взрыв происходил, когда это расстояние достигало требуемого значения. Я или знал, или, скорее, догадался, что это измеряется длительностью прохождения туда и обратно электромагнитной волны (названия "радар" я тогда, конечно, не знал). Майор же объяснил, что это делается с помощью ртутного альтиметра, и я, юнкер, посмел возразить майору. Это после того, как я прослужил в армии два года и окончил два офицерских училища! Надо ли добавлять, что, когда через пару недель мы услыхали О взрыве атомной бомбы над Японией, я "заткнулся", предоставляя начальству рассуждать об этом, как ему вздумается. Начал я серьезно размышлять о том, что буду делать после демобилизации. Об этом будет подробнее дальше, но здесь я хочу рассказать еще про один забавный случай. Как юнкер я имел право не ночевать в казарме и снимал комнату в старом доме Брйя-Саварена (Brillвt-Savarin), знаменитого гастронома XVI-11 столетия. (Мне очень нравится его девиз: "Вы отвечаете за блаженство вашего гостя, пока он под вашей кровлей, и на следующие сутки".) Роясь в библиотеке хозяина, я нашел рецепт варенья из дынь, который списал для Сюзан в надежде, что он ее заинтересует. В своём ответе Сюзан ничего не сказала про варенье, но справлялась, что ей делать с прошением на стипендию, написанным мною на имя господина де Вальбрез (De Val-breuze), директора Высшей школы электричества (Ecole Supйrieure d'Electricitй). Я объяснил ей, куда отправить прошение, и к варенью из дынь больше не возвращался. Пробовала ли госпожа Де Вальбрез' варить это варенье или нет, я не знаю. За два года, которые я провел в этой школе, во время редких и кратких встреч с директором я этот вопрос не затрагивал. Вскоре я был демобилизован и вернулся в Париж. Три мушкетераПора, мой друг, пора! Сюпелек. — Новорожденный КАЭ. — Зрелый д'Артаньян. — "Крупнейший" атомщик. — Школа засекречивания. — Атомы и бюрократыВ 1985 году французский Комиссариат по атомной энергии (КАЭ) отпраздновал свое сорокалетие. Журнал "Атомная энергия" (Energie Nuclйaire) предложил некоторым ветеранам КАЭ рассказать о своих ранних впечатлениях. Вот как начинались мои воспоминания: "Осенью 1945 года мне было тридцать лет, я сдал семь экзаменов за семь университетских курсов, не имея ни одной публикации, и был без работы; как это произошло?" Читатель вряд ли может пожаловаться, что я ответил недостаточно подробно на этот вопрос на предыдущих страницах. Но после заклятия прошлого (выражение, которое повторяется на этих страницах со зловещей частотой) и возвращения к жизни, не только цивильной, но с уходом "зеленой плесени" и цивилизованной, меня брало за горло настоящее. В конце прошлой главы я рассказал, как через Сюзан я обратился за приемом и стипендией в Высшую школу электричества (Ecole Supйrieure d'Electricitй, сокращенную в Supйlec) или, как я отныне буду писать, Сюпелек. Мои семь экзаменов открыли мне вход без конкурса в Сюпелек, а мои военные подвиги обеспечили стипендию. Зачем постучался я в дверь Сюпелек? Первый мотив ясен из предыдущих строчек: стипендия и прием вне конкурса уже кое-что значили. К тому же сама мысль о возвращении в Сорбонну вызывала у меня отвращение: профессора ведь были все те же. Но были и более существенные мотивы. Мой друг Гликман, сам инженер радиотехник, очень хвалил эту школу. На отделении по радиотехнике, которое я выбрал, продолжительность курса была только что увеличена с одного года до двух, что вряд ли могло понравиться тем, кто, как я, уже потерял столько времени. Но должен признать, что это было правильным решением. Оно стало необходимым ввиду успехов радиотехники не только за границей в связи с развитием военных применений, но и во Франции, где, начиная с работ генерала Феррье (Ferrie), Гюттона (Gutton), и даже Луи де Бройля, была заложена достойная традиция в этой области и где за последние годы наши радиотехники оказались, пожалуй, активнее наших физиков. Вот почему в начале октября 1945 года я переступил порог Сюпелек^ находившейся тогда в "Малакоф" ("Malakoff" — предместье Парижа, названное так в честь Малахова кургана, где, как считают французы, они одержали победу во время Крымской войны), с намерением, спешу сказать увенчавшимся успехом, выйти оттуда через два года с дипломом инженера радиоэлектрика. Означало ли это погребальный звон по моим надеждам стать физиком? Как говорит Хемингуэй, кто знает "по ком звонит колокол".Сюпелек не была тогда и, как мне кажется, не является и теперь одной из "Больших школ", таких как Политехническая или Нормальная, ни по своему престижу, ни по качеству учащихся, которые туда попадают. Но я безоговорочно утверждаю, что она стояла тогда гораздо выше их (теперь — не знаю) качеством преподавания. Гораздо выше, прежде всего (и для меня это было самым главным) качеством практических работ, многочисленных и разнообразных, под руководством компетентных младших и старших преподавателей и (что еще важнее) оснащением новейшей аппаратурой, находившейся в прекрасном состоянии. Выполнение практических работ, здесь впервые со времени моего детства (это в тридцать-то лет!!), вернуло мне доверие к предсказаниям физики. Цикл гистерезиса трансформатора, кривая реакции двух связанных контуров, характеристики пентода, диаграмма направленности излучения антенны — все, что я измерял в лаборатории, соответствовало качественно и количественно (и без мошенничества, как в курсах ФХЕ или "Общая физика") рисункам курса Сюпелек, и это было для меня откровением. В первый раз в жизни я находил удовольствие в экспериментальной работе. Я был неуклюж, обжигался паяльником, пару раз испытал на себе электрический разряд, потому что забыл заземлить аппарат, однажды пережег измерительный мостик, но я знал, что был сам виноват и что действительность на самом деле соответствовала уравнениям. Все слышали про знаменитого физика Энрико Ферми, которого и теоретики, и экспериментаторы считали "своим". Я тоже таков, хоть и не совсем: экспериментаторы принимают меня за теоретика, а теоретики за экспериментатора. Это не так плохо, как кажется на первый взгляд. Если я смог найти общий язык с обоими, понимать, а иногда и вдохновлять (громкое слово) и тех, и других, если я смог создать лабораторию и управлять ею в течение тридцати лет, всем этим я обязан Сюпелек. Лекции тоже были неплохи, в общем значительно лучше, чем те, которые я слушал десять лет тому назад на курсе по общей физике. Но был один курс по электротехнической аппаратуре, который оставил у меня сомнительные воспоминания. Во вступительной лекции профессор, желая сообщить нам последние новости об атомном строении материи, сказал, что электроны находятся не только вне атомного ядра, но и внутри. Я не вытерпел и сказал ему, что на сегодняшний день (1945 год), когда уже создана атомная бомба, это слегка устаревшее представление. Его не обрадовало мое замечание, и это отодвинуло меня на несколько мест в списке выпускников. Тот факт, что этот профессор был военным, полковником инженерных войск, не вызывал особого снисхождения у штатского, которым я наконец стал. Среди студентов в этот первый год после войны около трети тоже были кадровыми офицерами связи. Некоторые из них потом работали в КАЭ.
Поговорим о КАЭ. Все газеты только об этом и говорили: не столько о самом КАЭ, который пока существовал только на бумаге, сколько об атоме — орудии смерти, но, возможно, благодаря своим мирным применениям, и благодетеле человеческого рода. И какая страна была лучше подготовлена, чтобы преуспеть в атомной гонке, чем Франция, родина Беккереля (Becquerel), Пьера и Марии Кюри (хотя, правды ради, она была уроженкой Польши), Фредерика и Ирины Жолио, Жана Перрена и Поля Ланжевена и их достойных преемников Фрэнсиса Перрена и Пьера Оже! Эти газетные претензии были не лишены оснований. Работы 1939 года Жолио и его сотрудников Гальбана (Halban) и Ковар-ски о делении урана и характеристике нейтронов, испускаемых в каждом делении, первый подсчет Перреном критической массы цепной реакции — все эти авангардные работы были французскими. Однако Жолио, который отказался покинуть оккупированную Францию и провел годы войны моральным узником своей лаборатории в Коллеж де Франс под надзором немцев (надзором, надо сказать, весьма снисходительным благодаря осуществлявшему его немецкому физику Гентнеру (Gentner)), ничего не сделал для науки за эти годы, по крайней мере ничего, достойного его гения. Он был одним из многих доблестных членов Сопротивления, но одним из десятков тысяч, если не из миллионов (как нас стараются уверить теперь), а вот физиков равного ему масштаба не было. Жаль! Осенью 1945 года (если не ошибаюсь) Жолио прочел лекцию в большой аудитории Сорбонны об атоме, об угрозе, связанной с ним (речь идет о радиоактивности), и перспективах. Мое самое яркое воспоминание об этой лекции — страшная давка, в которой меня чуть не придушили. Многие женщины упали в обморок. Прочитав в газетах про учреждение КАЭ и про важную роль, которую там должны были играть профессора Фредерик и Ирина Жолио и мои "учителя" Перрен и Оже, я решил отыскать Фрэнсиса Перрена. Нашел я его в Люксембургском дворце, где заседает сенат (во время войны генерал де Голль, встретившись с Перреном в Алжире, произвел его в сенаторы). Наша беседа проходила под грохот пневматических молотков: немцы сильно укрепили дворец и теперь его приводили в нормальное состояние. Фрэнсис рассказал мне про КАЭ и про то, что этой новой организации, в которой Жолио будет Верховным комиссаром (ВК), а он сам — одним из комиссаров, будут нужны научные работники и что там найдется место для меня. А пока все определится, он обещал мне временное место в Национальном центре научных исследований (НЦНИ, по-французски CNRS). Фрэнсис также рассказал мне про трех молодых и блестящих, только что выпущенных политехнихов — Клода Блоха (Claude Bloch), Жюля Горовица (Jules Horowitz) и Мишеля Трошри (Michel Trocheris), — которые желали заниматься научной работой в КАЭ и вместе с которыми я мог бы работать. После свидания с Фрэнсисом, первого за семь лет, успокоившись насчет своего будущего, я возвратился к своей Сюпелек, или, вернее, к практике, обязательной между первым и вторым годом занятий, так как дело было летом 1946 года. По совету Фрэнсиса я решил провести месяц практики в лаборатории известного физика-ядерщика Розенблюма (Rosenblum) в Бельвью (Bellevue). Центром деятельности лаборатории Бельвью являлся огромный электромагнит, сооруженный по инициативе моего бывшего учителя профессора Эжена Коттона. Розенблюм работал над тонкой структурой альфа-частиц. В сильном магнитном поле, царствующем в зазоре магнита, альфа-частицы с различными энергиями имеют траектории различной кривизны, что позволяет анализировать тонкую структуру уровней энергии испускающего их ядра. Розенблюм принял меня очень любезно и направил к Евгению Коттону, сыну моего бывшего профессора, который работал над этой темой и готовился к защите докторской диссертации. Евгений ввел меня в курс дела. Альфа-источник и детектор были расположены внутри находившегося в зазоре магнита стеклянного контейнера, в котором поддерживался вакуум. К сбору данных полагалось приступить, как только вакуум окажется удовлетворительным. Течеискателей тогда не было, и качество вакуума определялось по цвету электрического разряда в остаточном газе. Высокий вакуум создавался насосом Гольвека (Holweck), "чудом точной механики", как уверял Коттон. Я был в восторге от возможности участвовать в первый раз в жизни в экспериментальном исследовании, смысл и значение которого я прекрасно понимал. Но (о горе!) в тот день контейнер светился прекрасным лиловым светом, что указывало на плохой вакуум. Ускорили вращение насоса, но "сирень" упорно отказывалась побледнеть. "Придется разобрать", — сказал механик, работавший с Коттоном. Я сокращу эту грустную историю. И месяц спустя "сирень" продолжала цвести в контейнере. Сначала я ходил в Бельвью каждый день, потом через день, потом два раза в неделю, потом совсем перестал ходить. Я присутствовал при разборке чуда точной механики и восхищался красотой его внутренностей, но темой для доклада о практике это не могло стать. Я распрощался с Коттоном, еще более огорченным, чем я, и принялся лихорадочно подыскивать другое место для прохождения практики. Все интересные места были заняты, и я попал в заводскую лабораторию, где мне поручили монтаж радиотехнической схемы. (Это, конечно, было задолго до транзистора.) По ходу работы я должен был сверлить круглые отверстия в металлической коробке с помощью инструмента, называемого трепаном, что помогло мне понять, как работают нейрохирурги. Так же как обмотки и конная артиллерия моего военного прошлого, эта работа имела исключительно воспитательный характер. За два последних дня я успел сделать несколько измерений и, растягивая их описание изо всех сил, состряпать более или менее приемлемый отчет. Во время второго года я работал напряженно, больше, чем когда-либо за всю жизнь. По той простой причине, что с осени 1946 года я был на полном рабочем дне в КАЭ и ничего не пропускал в Сюпелек. Вершиной моих трудов был проект радиопередатчика мощностью в 50 киловатт, созданный для выпускного экзамена. Чтобы закончить его вовремя, я сделал то, чего никогда не повторял позже: я просидел за письменным столом круглые сутки без перерыва. Мои усилия были награждены лучшей отметкой за проект в нашем выпуске. Помню, что по окончании проекта я тут же отправился в КАЭ, чтобы прослушать доклад моего будущего начальника профессора Жака Ивона (Jacques Yvon) о торможении нейтронов. Я засыпал буквально каждые две минуты, и Горовиц, сидевший рядом со мной, каждый раз сжимал мне руку, чтобы я не захрапел или не свалился со стула, что было бы оскорбительно для лектора. В июле 1947 года я окончил Сюпелек седьмым из сорока. Вероятно, я вышел бы вторым или третьим, если бы не посредственная отметка по практике (за "трепанации") и совсем плохая отметка по электротехнической аппаратуре — подарок моего "друга"-полковника, любителя электронов в атомных ядрах. Это был последний экзамен (предпоследний, если считать защиту диссертации в Оксфорде в 1950 году) в моей жизни, в которой их было немало. В октябре 1946 года я встретился впервые с тремя молодыми людьми, которым суждено было стать моими постоянными сотрудниками в течение года, а затем коллегами и верными друзьями, это были: Клод Блох (преждевременно скончавшийся в конце 1971 года), Жюль Горовиц и Мишель Трошри. Когда Клод Блох покинул нас, он был уже почти год директором Отделения физики в КАЭ. Мишель Трошри, в течение многих лет начальник департамента ядерного синтеза, вышел в отставку в июле 1986 года. Горовиц ушел в декабре того же года. Он был тогда (с 1971 года) директором отделения научно-исследовательских работ в КАЭ, а до этого заведовал атомными реакторами. Но все это было еще далеко впереди. Наша первая встреча произошла в Шатийоне (Chatillon), предместье Парижа, в заброшенной крепости, переданной в пользование КАЭ и превращенной в ряд лабораторий. Должен ли я признаться, что мое первое впечатление при встрече с будущими товарищами было смешанным? Я уже говорил раньше, что мой учитель Фабри отзывался о политехниках: "наполнен сам собой, но, к сожалению, ничем другим". Это определение не совсем подходило к моим новым друзьям: "наполнен сам собой" нельзя было исключить совсем, но знания, которы