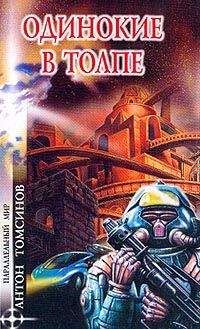Осип Черный - Немецкая трагедия. Повесть о К. Либкнехте
Фронт социал-демократов давал первые трещины. Во время той же сессии, на заседании фракции, депутат Гаазе выступил с едкой речью. Он даже не заикнулся о самообороне, о которой без конца твердили социалисты с начала войны. Да и уместно ли было говорить о ней, если немцы захватили столько чужих земель! Правительство и не думало возвращать эти земли обратно: наоборот, все чаще говорилось о праве пересмотреть прежние границы.
Крен Гаазе влево настораживал. В том, что Либкнехт громит руководство, ничего нового не было. По отношению к нему меры были уже приняты, поэтому его и держали подальше в окопах, и отпускали в Берлин в крайних случаях. Так молчаливо порешили и в имперском кабинете, и во фракции социал-демократов. Но Гаазе надо было деликатно прибрать к рукам.
Как и в начале войны, Шейдеман вовремя подсказал ход.
— Нужны лишь кое-какие уточнения в духе большинства, тогда ваше выступление можно будет принять за основу.
— Но в том-то и дело, что я вашей точки зрения не разделяю! — возразил Гаазе.
— Вы достаточно дисциплинированны, чтобы посчитаться с большинством. Ведь у нас коренных расхождений нет: крен, небольшой крен… Чуть-чуть выровнять. Мы просим вас внести исправления, вернее сказать, уточнения, и ваши мысли положим в основу платформы фракции.
— Постойте, постойте… — Гаазе тряхнул бородой и, вскочив, запальчиво произнес: — Я утверждаю, что цели, во имя которых Германия вступила в войну, достигнуты. Несмотря на это, борьба продолжается. Значит, одно из двух: либо появились новые цели, либо война никому но нужна и мы обязаны первыми протянуть руку мира.
— Не обманывайте себя, — сказал Либкнехт, иронически усмехнувшись. — Цели те же, что и вначале: захватнические, империалистические.
Шейдеман нетерпеливо помотал головой, как будто отгоняя муху; затем обернулся к Гаазе:
— Из того, что правительство не огласило декларации о целях воины, нельзя еще делать вывод, будто оно что-то скрывает. Стать на такой путь мы не можем, надо подождать.
— Сложа руки?!
— Готов уточнить, чтобы вам было спокойнее. И может быть, товарищу Либкнехту тоже будет легче проявить хоть каплю выдержки… — Он покосился небрежно на строптивого депутата и продолжал: — Не сложа руки, как вы говорите, а, наоборот, настойчиво требуя, чтобы цели войны были оглашены. Устраивает вас?
Гаазе шумно вздохнул:
— Вы мастер ставить вопросы с ног на голову, знаю!
— Не больше, чем вы. Я ведь не говорю, что у нас с вами не может быть несогласий. Я только утверждаю, что причин для серьезных расхождений пока нет.
Эберт сидел хмурый. Выпятив губы, он скучно раскачивал массивное пресс-папье.
— Пустое препирательство, — буркнул он. — И находятся же охотники до словопрений в такое время!
— Ты неправ, — возразил Шейдеман. — Это вопрос большой важности.
Он считал, что Эберт нечуток к тонкостям политической тактики.
Обстановка во фракции таила в себе нечто такое, что надо было вовремя оценить. Даже незначительное сопротивление основной линии грозило расколом. Шейдеман с яростью наблюдал за Либкнехтом, не скрывавшим удовлетворения, когда один за другим депутаты заявляли, что за кредиты голосовать на этот раз не будут.
— Так вы что же, коллеги, намерены последовать пагубному примеру Карла Либкнехта?!
— О нет, — выкрикнул тот, — можете быть спокойны, так далеко они не пойдут! Пока что. Я подчеркиваю — пока!
— Неужели же вы не видите, что вы тут полностью изолированы? — обратился к нему Шейдеман, смотря на него уничижающим взглядом.
— Не полностью, нет, — неожиданно объявил дрезденский депутат Отто Рюле. — Я буду тоже голосовать против.
Так, довольно печально для руководства, закончилось заседание фракции. Фридрих Эберт долго ворчал потому что Шейдеман напрасно миндальничал. Шейдеман же считал, что его совесть чиста: все, что было можно, он сделал; стремясь удержать на наклонной плоскости неустойчивых членов фракции, проявил максимальную выдержку.
VIIIИз тюрьмы Роза Люксембург писала, что каждое выступление Либкнехта означает для правящих классов черный день.
Хотя он понимал, что важнейшим местом борьбы окажется вскоре не рейхстаг и борьба будет перенесена на заводы, в гущу рабочих масс, однако для своих выступлений старался использовать любую возможность.
Надо было позаботиться и о том, как сделать устойчивой связь с недовольными — теми, кто все больше задумывался о положении страны.
На свободе оставалась небольшая, по сильная группа единомышленников — Вильгельм Пик, Юлиан Мархлевский, Лео Иогихес, Кете Дункер и Герман Дункер. Каждый из них недвусмысленно определил отрицательное отношение к войне. За плечами у них были годы партийной работы — у кого больше, у кого меньше, но облик каждого был ясен и политический почерк достаточно четок.
Признанным патриархом группы можно было считать Франца Меринга. Ему было уже под семьдесят. Годы брали свое, он часто хворал и тем не менее принимал живое участие в деятельности левой группы.
Раза два он посетил Люксембург в тюрьме. Седой, бородатый, представительный, профессор с виду, он внушал доверие. Тюремщики принимали его за родственника заключенной и вовсе не знали, сколь он опасный противник режима, который они охраняют.
Присутствуя при свиданиях невысокой, слабой здоровьем женщины и такого солидного старого человека, они меньше всего могли заподозрить его в злом умысле.
Меринг расспрашивал Розу, как она себя чувствует, выходит ли на прогулки, довольна ли книгами, которые получает. О каких-то записках к родственникам упоминалось вскользь.
— Почему они молчат? Я же просила ответить!
— Насколько я знаю, ответ был послан.
— Но я его не получила!
— Кузины Кете и Клара постоянно справляются о твоем здоровье.
— Лучше бы позаботились о моей библиотеке!
— Ни один листок из нее не пропал.
В утомительной для чужого слуха словесной будничной вязи мелькала ниточка одного какого-то тона, которую оба старались не упустить. Когда она вдруг исчезала, Роза с тревогой задавала новый вопрос, который помог бы ей разобраться в запутанном положении.
— Так я жду! — Она протянула ему свою руку.
Он пожал ее с заботливой, почти отеческой неторопливостью, словно хотел удержать тепло руки, запомнить силу ее пожатия.
Уже выйдя за ограду тюрьмы, Меринг, державший руку так, точно, изменив ее положение, потревожил бы память о Розе, осторожно сунул ее во внутренний карман пиджака.
Дело затеялось не вчера, оно велось вот уже две-три недели. Роза напрасно нервничала, опасаясь, что ее усилия принимаются во внимание недостаточно. Наоборот, предпринималось кое-что немаловажное, обещавшее дать плоды в ближайшее время.