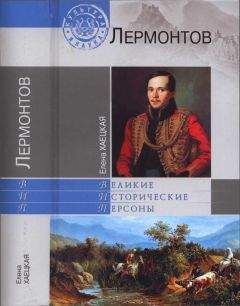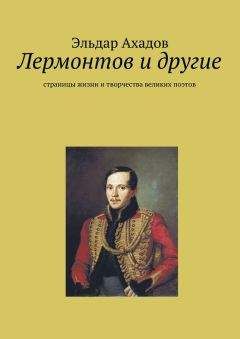Виктор Афанасьев - Лермонтов
Дома он начал писать стихотворное послание к ней, как бы продолжая разговор, который ему ни днем, ни ночью не хотелось прерывать. Он рассказывал в нем, что «с начала жизни» любил «угрюмое уединенье», «укрывался весь в себя», боясь людского отклика. Ни дружба, ни любовь, думал он, «черных дум не унесут».
Мои неясные мечты
Я выразить хотел стихами,
Чтобы, прочтя сии листы,
Меня бы примирила ты
С людьми и с буйными страстями;
Но взор спокойный, чистый твой
В меня вперился изумленный,
Ты покачала головой,
Сказав, что болен разум мой,
Желаньем вздорным ослепленный.
Она возвращала его к одиночеству, к сердцу, но приближала этим и к себе...
Я, веруя твоим словам,
Глубоко в сердце погрузился,
Однако же нашел я там,
Что ум мой не по пустякам
К чему-то тайному стремился,
К тому, чему даны в залог
С толпою звезд ночные своды,
К тому, что обещал нам Бог
И что б уразуметь я мог
Через мышления и годы.
Но пылкий, но суровый нрав
Меня грызёт от колыбели...
И в жизни зло лишь испытав,
Умру я, сердцем не познав
Печальных дум, печальной цели.
Зло — на пути к Высокому и на пути к самопознанию, вернее — поперек пути. «Черные» и «печальные» думы имеют какую-то еще другую цель, кроме познания бессмертия духа, вечности жизни. «Я бы мог...», но... Еще многое впереди («мышления и годы»)... Зло — поперек пути... Но только ли поперек? В следующем послании к ней он попытался и на это ответить:
Не говори: одним высоким
Я на земле воспламенен,
К нему лишь с чувством я глубоким
Бужу забытой лиры звон;
Поверь: великое земное
Различно с мыслями людей.
Свершил с успехом дело злое —
Велик; не удалось — злодей...
И дальше о Наполеоне. Бог не помешал ему стать Великим Злодеем. Больше того: Бог попускает Сатане обольщать людские сердца. Эти обольщения звучат непрерывно — вместе с внушениями Святого Духа. Непрерывные удары молота с двух сторон. Пламя... Невольно приходит на ум судьба Демона, его беспросветное одиночество:
Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье все готовы —
Никто не хочет грусть делить.
Один я здесь, как царь воздушный,
Страданья в сердце стеснены...
Одиночество сродни смерти. Значит, смерть не тонкая черта между жизнью и неизвестным, — она протягивает свою руку глубоко во всю жизнь человека, до самого мига его рождения (раз прочитав, нельзя забыть того, что говорит об этом знаменитый автор «Ночных мыслей» Эдвард Юнг: «Смерть обретается в воздухе, коим мы дышим; в пище, коею подкрепляемся: в крови, нас одушевляющей; покой нам столь же смертоносен, как и труды; мы так же погибаем от изобилия, как и от нужды; повсюду смерть внедряется и круговращается в самых источниках жизни»). Смерть живет с человеком и много ему навевает на душу, если он умеет чувствовать... А не значит ли это, что все равно — когда умереть? Или даже лучше — скорее?
...И вижу гроб уединенный,
Он ждет; что ж медлить над землей?
Ради чего медлить? Может быть, ради воспоминаний... самых далеких, самых ранних. Синий, туманный Кавказ... Хочется сидеть целыми ночами с думой о нем. Почему же о нем? Чем он освящен? Кавказ — это страна, где живет душа поэта, «отторгнутого» судьбой от ее гор... Это еще один — из многих — путь, по которому идет жизнь.
В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.
Этот «памятный глас» — эхо рано пресекшейся жизни, забытая песня матери. Это «забытое» он будет слушать не только всю жизнь, но и после смерти. Он уже сейчас знает это.
Она бывала на вечерах в пансионе. Покойный отец ее — писатель Федор Иванов — был другом Мерзлякова. Мерзляков нередко навещал вдову и «малюток» (у Наташи была сестрица). И даже когда вдова нашла себе новое счастье, заботливого супруга, когда явились на свет еще малютки, — Мерзляков и тогда не забывал семьи друга, ездил даже в деревню, за тридцать верст, чтобы порадоваться красоте и уму Наташи, с которой можно беседовать не по пустякам, да и кое-что порассказать ей, привезти книг... Мерзляков приглашал ее на пансионские вечера и балы.
Семья не бедствовала. Екатерина Ивановна, ныне Чарторижская, не была оставлена множеством влиятельной и богатой родни. И деревню Никольское-Тимонино она купила у князя Ивана Михайловича Долгорукова, поэта, уже в 1818 году, через два года после смерти мужа. В полуверсте от имения располагалась Лосиная фабрика, где служил помощником директора давний знакомец Ивановых — Михаил Николаевич Чарторижский... Он был холост.
Дурнов, несмотря на всю свою беспечность и наивность, едва не раскрыл тайны. Он что-то видел или случайно подслушал. Его осенило... И он начал приставать к Лермонтову: «Ты влюблен... скажи, если ты мне друг, в кого... не запирайся... это нечестно». Лермонтов отшучивался. Но когда Дурнов надул губы, он решил, что лучшему-то другу нельзя не сказать совсем ничего! «Хорошо, Митя, — думал он. — Завтра получишь ответ. Добавлений к нему никаких не будет!» Это было послание «К Дурнову»:
Довольно любил я, чтоб вечно грустить,
Для счастья же мало любил,
Но полно, что пользы мне душу открыть,
Зачем я не то, что я был?
В вечернее время, в час первого сна,
Как блещет туман средь долин,
На месте, где прежде бывала она,
Брожу беспокоен, один.
Тогда ты глаза и лицо примечай,
Движенья спеши понимать,
И если тебе удалось... то ступай!
Я больше не мог бы сказать.
В январе Лермонтов писал заново «Демона». Первую строфу он оставил почти такой, как она была, но переделал две строки:
...Когда сердечная тревога
Чуждалася души его...
Два слова «сердце» и «душа» — он заменил на одно: «ум»:
...Когда заботы и тревога
Чуждалися ума его...
Сердце и душа Демона многие века, со дня клятвы перед Сатаною на Сионе, окованы были «железным сном». Сеющий на земле зло Демон «не знает ни добра, пи зла», у него нет никаких желаний... Но образ начинает двоиться, он зыбок, нечеток... Уже через несколько строк Демон — «душой измученною болен», ему «все горько», он «все на свете презирает», и это уже — жизнь духа... Двойственность эта дала свои плоды — уже во второй главке. Звук лютни и «чей-то голос» разрушают все спокойствие «беглеца Эдема»: