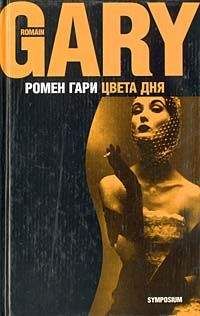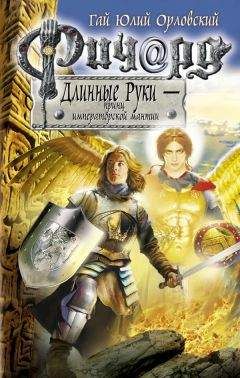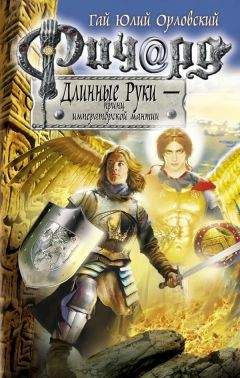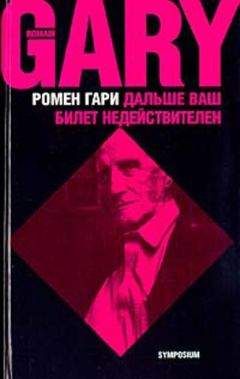Ромен Гари - Обещание на заре
Я всегда мечтал, чтобы женщина погубила меня морально, физически и материально: чудесно, должно быть, если твоя жизнь на что-то все-таки сгодилась. Наверное, я еще могу подхватить чахотку, но уже не думаю, что в моем возрасте это может произойти подобным образом. У природы есть свои пределы. Впрочем, что-то мне подсказывает, что молодые цыганки и даже гвардейские офицеры уже не те, что прежде.
После концерта я предлагал матери руку, и мы отправлялись посидеть на Английском променаде[81]. Сиденья там тоже были платные, но эту роскошь мы теперь уже могли себе позволить.
С толком выбрав место, можно было устроиться так, чтобы слушать либо оркестр «Лидо», либо оркестр Казино, причем даром. Обычно мать тайком приносила с собой в сумке черный хлеб и огурцы, наше излюбленное лакомство. Так что в те времена, часов около девяти вечера, среди толпы, прогуливающейся по Английскому променаду, можно было заметить благообразную седовласую даму и подростка в синей тужурке, скромно сидящих спиной к балюстраде и смакующих соленые «по-русски» огурцы с черным хлебом, подстелив газету на колени. Это было прекрасно.
Но недостаточно. Мариетта разбудила во мне голод, который нельзя было утолить никакими, даже самыми солеными в мире огурцами. Она покинула нас уже два года назад, но воспоминание о ней все еще текло в моей крови и не давало спать по ночам. До сего дня я сохранил к этой доброй француженке, открывшей мне дверь лучшего из миров, глубокую благодарность. Тридцать лет прошло, но я могу сказать — с гораздо большим основанием, чем Бурбоны, — что с тех пор ничему не научился и ничего не забыл[82]. Пусть ее старость будет счастливой и безмятежной, и пусть она знает, что и впрямь употребила к лучшему то, что даровал ей Господь. Чувствую, что совсем растрогаюсь, если и дальше буду распространяться на эту тему, а потому умолкаю.
В общем, Мариетты уже давно не было рядом, чтобы протянуть мне руку помощи. Моя кровь бурлила в жилах и стучала в дверь с такой пылкой настойчивостью, что мне не удавалось ее унять, даже проплывая каждое утро по три километра. Сидя рядом с матерью на Английском променаде, я выслеживал взглядом каждую из прелестных подательниц хлеба сего, чередою проходивших мимо, глубоко вздыхал и смущенно оставался на месте, держа огурец в руке.
Но тут сама древнейшая в мире цивилизация со своим благожелательным пониманием человеческой природы и ее греховности, со своим чувством компромисса и умением заключать сделки пришла мне на помощь. Средиземное море слишком долго сосуществовало вместе с солнцем, чтобы считать его врагом, и оно склонило ко мне свой многомилостивый лик.
Городской лицей Ниццы был не единственным образовательным учреждением, возвышавшимся тогда между площадью Массена и эспланадой Пайон. На улице Сен-Мишель мы с товарищами находили простой и дружеский прием, по крайней мере когда американская эскадра не останавливалась в Вильфранше — то был чернейший день среди прочих, когда в школе царило уныние, а черная классная доска становилась подлинным стягом нашей меланхолии.
Но с двумя-тремя франками карманных денег в день не больно-то разгуляешься, как говорят на Юге.
Так что странные дела стали твориться в нашем доме. Исчез ковер, потом другой, а однажды, по возвращении из муниципального казино, где давали «Мадам Баттерфляй»[83], мою мать ошеломило открытие, что маленькое трюмо, которое она накануне приобрела у старьевщика с намерением выгодно перепродать, буквально растворилось в воздухе, хотя все окна и двери были закрыты. Беспредельное изумление изобразилось на ее лице. Она подвергла квартиру тщательному обследованию, желая удостовериться, не пропало ли что-нибудь еще. Оказалось, что да: мой фотоаппарат, моя теннисная ракетка, мои часы, мое зимнее пальто, коллекция почтовых марок и собрание сочинений Бальзака, которое я совсем недавно получил за первое место по французскому языку, последовали тем же путем. Мне удалось продать даже тот самый самовар — я сбыл его одному антиквару из старой Ниццы за смехотворную, конечно, сумму, но которая, тем не менее, временно вывела меня из затруднения. Мать какое-то время поразмыслила, потом уселась в кресло и стала на меня смотреть. Смотрела долго, внимательно, а потом, к моему великому удивлению, вместо драматической сцены, которую ожидал, я вдруг увидел, как по ее лицу разлилось выражение почти ликующего торжества и гордости. Она шумно, с огромным удовлетворением засопела и взглянула на меня еще раз — благодарно, восхищенно и растроганно: я стал наконец мужчиной. Она боролась не зря.
В тот вечер она написала длинное письмо своим крупным нервным почерком, все с тем же торжествующим и довольным видом, словно спешила известить, что я оказался хорошим сыном. Вскоре мне пришел персональный перевод на пятьдесят франков, и еще много других в течение года. Я был временно спасен. Зато пришлось наведаться к одному старому доктору на улицу Франции, который после долгого топтания вокруг да около объяснил мне, что жизнь молодого человека полна ловушек, что мы очень уязвимы, что отравленные стрелы свистят нам в уши и что даже наши предки галлы никогда не шли на битву без щитов. После чего вручил мне маленький пакетик. Я вежливо его выслушал, как подобает слушать старших. Но еще визит в виленский «Паноптикум» окончательно просветил меня на сей счет, и именно с тех пор я решил сохранить в целости свой нос. Я мог бы сказать ему также, что он серьезно недооценивает порядочность и щепетильность добрых душ, к которым мы ходим. Большинство из них сами были заботливыми матерями и никогда в жизни не позволили бы нам рисковать, идя в кильватере за моряками со всего света, не приобщив к правилам необходимой осторожности, потребной всякому мореходу, почитающему стихии.
Родное мое Средиземное море! Как же твоя жизнелюбивая латинская мудрость была ко мне милостива и дружелюбна, и с какой снисходительностью твой старый лукавый взгляд коснулся моего отроческого чела! Я всегда возвращаюсь к твоим берегам вместе с рыбачьими лодками, что привозят в своих сетях закат. Я был счастлив на этих галечных пляжах.
Глава XXI
Наша жизнь налаживалась. Помню даже, что как-то в августе мать поехала на три дня отдыхать в горы. Я провожал ее до автобуса, с букетом в руке. Прощание было душераздирающим. Мы разлучались в первый раз, и мать плакала, предчувствуя наши будущие разлуки. Водитель автобуса, изрядно насмотревшись на сцену нашего прощания, в конце концов спросил меня, с тем ниццким выговором, который так под стать душевным волнениям: