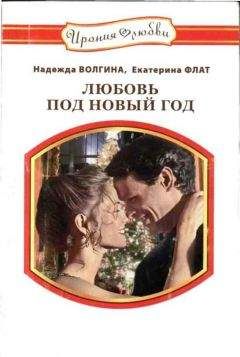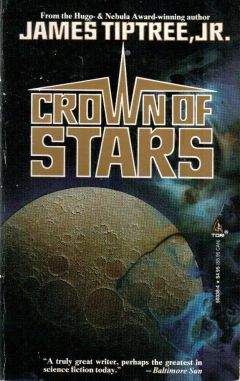Александр Формозов - Рассказы об ученых
Строгость и требовательность Крачковского мне близки и понятны, и, тем не менее, я не смог бы ни выступить, как он, ни голосовать против. Я помню учившихся со мной на историческом факультете МГУ слепых фронтовиков: чёрные очки на обожжённых лицах, застиранные гимнастёрки, простые деревянные палки в руках. Вряд ли у кого-нибудь из них ещё до войны было призвание стать историком. Скорее всего, их направили на наш факультет уже из госпиталей как на самый для них лёгкий. Обычно их зачисляли для специализации на кафедры истории СССР или истории ВКП(б), и нанятые деканатом пенсионеры читали им в общежитии или в углах актового зала одни и те же знакомые всем брошюры.
Судьба ученика Крачковского иная. Он увлёкся культурой Востока в юности и остался верен избранной специальности несмотря ни на что. Найти чтеца для куфических рукописей, да и для английских и французских монографий было безмерно трудно. И о чём, в конце концов, шла речь? Я бы ещё поколебался, если бы обсуждалось – издавать или не издавать написанную им книгу. Но диссертация, учёная степень… Это ведь вопрос зарплаты, куска хлеба, не более. Нет, моя рука не поднялась бы не только на слепого ориенталиста, но и на малоприятного мне черносотенца Михаила Найдёнова с истфака МГУ (студенческое прозвище – «Власть тьмы»)[170]. Что ни говори, эти люди отдали своё здоровье за нас, и мы перед ними в долгу.
Всё вроде бы ясно, но прибегнем ещё раз к сравнению с театром: пойдём ли мы на концерт безголосого певца или хромоногой балерины, услышав, что они пострадали, совершая настоящие подвиги? Сомнительно. И это не бездушие. Наука, искусство – не безжизненные абстракции, а то, о чём надо заботиться не менее бережно, чем о живых людях. Недопустимо жертвовать культурой в интересах отдельных личностей, не исключая и самых несчастных, самых благородных. Служители её, такие, как Крачковский, вправе порой проявить жестокость, чтобы сохранить необходимый уровень в своей области знания. Во всяком случае, бывает полезно напомнить о нём. Другим же позволительно пощадить обиженного судьбой товарища (и Крачковский, конечно, не всегда был безжалостно строг[171] – с теми же репрессированными коллегами хотя бы).
Этой историей я хочу завершить мои очерки. И она, и все рассмотренные выше коллизии не могут быть разрешены без долгих раздумий и угрызений совести. Мы затронули тяжёлые конфликты, отражающие в целом трагичность положения подлинного учёного. Каждому из нас нужно отдавать себе отчёт в том, что познание мира, требующее беспристрастности, объективности, производится обыкновенными людьми, обременёнными всеми страстями, свойственными нашему роду.
Нельзя сказать: подави в себе всё человеческое, постарайся стать бесстрастной машиной. Именно эта ужасная идея вела талантливых врачей в услужение к палачам, обещавшим медикам обильный материал для любопытнейших изысканий.
Но ошибочным был бы и противоположный совет: будь прежде всего человеком, а уже потом специалистом. Он выглядит куда красивее, но тоже опасен, ибо есть обстоятельства, когда приходится поступаться своими чувствами ради Науки с большой буквы. В любом из предшествующих очерков мы сталкивались с внутренней борьбой человека и специалиста в учёном. Переоценка собственной персоны побуждает его к созданию внешне эффектных, широковещательных, но легковесных теорий. Самолюбие мешает ему сказать – «не знаю», или исправить некогда допущенную ошибку. Патриотизм или приверженность к какой-либо предвзятой идее заставляет искажать факты в угоду дорогой его сердцу концепции. Казалось бы, это элементарно, но кто из нас осмелится заявить, что абсолютно свободен от подобных слабостей.
Попадаем мы и в ситуации посложнее. По-своему правы и в то же время не правы были обе стороны в споре Бадера с Рюминым, Рериха с Грабарём. Прав был и Крачковский, но мало кто последует его примеру – и слава Богу.
Каков же тогда итог? Для себя я формулирую его так: надо отчётливо сознавать, что наука строится людьми, обладающими всеми присущими им качествами – и прекрасными, и постыдными; что ты сам наделён ими в полной мере, о чём свидетельствуют твои статьи и книги. Нужно не забывать об этом ни на минуту, чтобы почаще вносить поправки в свои старые выводы; трезво оценивать то, что делается вокруг, и быть готовым вновь и вновь искать наилучшие решения повседневно возникающих психологических конфликтов. Исходным, раз навсегда данным должно быть только это, а не стремление вечно подавлять в себе человека во имя науки, или, наоборот, превратить её в источник безбедного и беспроблемного существования.
У тех, кто прочтёт мои книги «Начало изучения каменного века в России» (1983) или «Следопыты земли московской» (1988), «Пушкин и древности» (2000), может сложиться впечатление, что автор в равной степени хвалит почти всех людей, работавших в рассмотренной им области, придерживаясь спасительной сентенции: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». Меж тем, на практике, во взаимоотношениях с коллегами я был далёк от такой благостности. Меня часто осуждали за нетерпимость. Конечно, легко любить давно умерших археологов и крайне трудно – своих современников, вольно или невольно тебя задевавших. Не всегда удавалось мне найти разумную линию поведения. И всё же я думаю, что противоречия в моём восприятии деятелей науки прошлого и ныне здравствующих не было.
Я всегда хорошо отзывался об учёных, внесших реальный вклад в нашу культуру, и не щадил любых жуликов, фальсификаторов, пустозвонов и чиновников от науки, так или сяк мешающих творческим людям. И в моих книгах вы встретите резкие характеристики таких деятелей из довольно уже далёкого прошлого, как, например, директора канцелярии обер-прокурора Святейшего синода А.И. Войцеховича, возглавившего при Николае I Отделение славянорусской археологии Русского Археологического общества. Не жалую я людей типа Н.В. Савельева-Ростиславича или Ф.Л. Морошкина. Никакого научного наследия они не оставили, а порочить подлинных историков не стеснялись (ничтожный Савельев-Ростиславич самого С.М. Соловьёва именовал в печати «пигмеем»[172]).
Когда перед Вами конфликт, попытайтесь до вынесения приговора понять, кто есть кто в этом споре. Профессор Новороссийского университета И.Ф. Синцов в 1873 году провалил на магистерском экзамене выдающегося палеонтолога В.О. Ковалевского. На того это так подействовало, что он отошёл от науки, взялся за малоподходящие для себя издательские дела, запутался в них и покончил с собой. Синцов был доктором биологии, кое-что полезное в его сочинениях как будто содержится, но в целом перед нами типичный чинуша. Недаром он в конце концов бросил университет и пошёл на административную должность[173]. За мелкие наблюдения над третичными раковинами трагическую гибель Ковалевского Синцову простить нельзя.