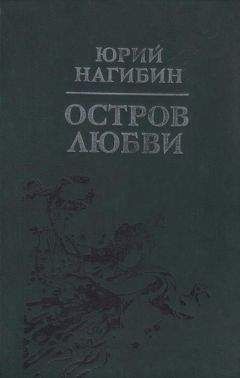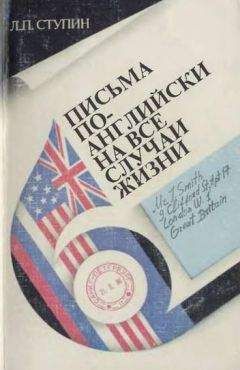Михаил Байтальский - Тетради для внуков
В Харькове я попал в руки земляка-ананьевца. На заре моей комсомольской юности мы вместе были в отряде Недолуженко, который подавлял кулацкое восстание под Балтой. Я отказывался давать показания и ему, мотивируя это тем, что государственным карательным органам нечего вмешиваться во внутрипартийные споры. ГПУ привлечено к борьбе с оппозицией незаконно, я ему показаний не дам. Но с земляком – его тоже звали Мишей – мы побеседовали по-товарищески и вполне откровенно. Я не опасался, что он использует мои слова, чтобы состряпать "дело". Тогда это еще не практиковалось.
– Троцкий тебя обманывает, – говорил он, – тебя и таких простаков, как ты. Думаешь, он всерьез занят разработкой теории о невозможности построения социализма в отдельно взятой стране?
– А Сталин тебя не обманывает? – возражал я. – Тебя и таких, как ты? Ему что, идея нужна? Нашел у Ленина одну-единственную цитату в подтверждение своей "теории", да и ту не прямую, а косвенную: у нас, дескать, есть все необходимое для построения социализма. И комментирует ее, как мой ребе в хедере комментировал Талмуд, – крутит в воздухе большим пальцем. Скажи правду, Миша, ты завещание читал? Неужели тебе не ясно, что за фигура ваш Сталин?
– Читал, читал. Все, что там написано, мы знаем. (Миша не уточнил, кто это "мы"). Сталин верен Ленину. Он клялся, помнишь? И на смертном одре обещал сдерживать себя, понятно вам, товарищ троцкист?
Беседовали мы долго, всего не упомнишь. Мой тезка горел желанием переубедить меня. Он не во многом преуспел.
Не стоит пытаться сочетать в одних руках методы убеждения и принуждения. Только тот отец, который решительно никогда не действовал на ребенка силой, может его убедить в чем-то. А если сына хоть раз били, откуда у вас уверенность, что в дальнейшем на него действуют отцовы доводы, а не страх перед отцовскими побоями? Где граница между убеждением и принуждением, если первое подкреплено угрозой применить второе? Разве взрослый в этом случае реагирует иначе, чем ребенок?
Поэтому я убежден: пока существует страх наказания за взгляды отличные от общепринятых (если не наказания уголовного, то, по меньшей мере, страх общественного остракизма), до тех пор всякое видимое единство взглядов есть не идейное, а безыдейное единство.
Да и о каких взглядах речь? В движущемся, развивающемся обществе возможна только общая убежденность в основной идее, из которой рождаются разные мнения по вытекающим из нее вопросам. Одной из таких основных идей является, бесспорно, идея Советской власти. Но не о ней же спорили мы с тезкой! Он исходил из безошибочного предположения, что я не менее привержен Советской власти, чем он сам. Только, как он считал, неправильно ее защищаю.
Протокола мой тезка не писал. Он лишь вызвал дежурного и распорядился, в какую камеру меня посадить. Отказ давать показания тогда еще не расценивался, как преступление.
Едва растворилась дверь камеры, как я попал в объятия нескольких подобных мне арестантов. Мы могли говорить о чем угодно, могли и писать – нам давали бумагу и чернила, чего позднее не было и в помине.
Внутренняя тюрьма ГПУ Украины была, как мне казалось, невелика. На прогулке я видел окна всех камер – не так уж много. Тогда мы относились без особого страха и к слежке, и к угрозе ареста, и к самому аресту. По-видимому, существует некая революционная традиция бесстрашия и презрения к аресту.
С одним из моих товарищей произошел такой случай. Он устроил маленькую вечеринку по случаю какого-то семейного события. Никакого троцкистского сборища, пользуясь газетной терминологией (это у нас заседания, а у других – сборища, так же, как у нас – разведчики, а у других – шпионы), не было. Пришли и не-троцкисты. Но у ворот все же появилось пальто. Подвыпивши, один из ребят взял бутерброд и стакан вина и отправился угощать разведчика: "Бедняга, нам тут тепло, а ему-то на ветру каково? Пусть погреется!"
Мы относились к сталинской методологии с той же легкомысленной насмешкой, что и к его идеям. Толкуя о термидорианстве,[35] мы, однако, никак не представляли себе гильотину в действии. Мы воображали, что дальше ссылок дело не зайдет: ссылать оппозиционеров (коммунистов) начали еще в 1927 году, но не в дальние районы, а в города центральной России – Калугу, Астрахань, Казань. Троцкого, правда, сослали в Алма-Ату, это считалось серьезным.
В Москве, в Бутырках, рассказывали мне товарищи, уже в 1929 году сажали в карцер, помещавшийся в Пугачевской башне, в которой держали когда-то Емельяна Пугачева. В этой башне сидела, оказывается, и Маруся – наверно, вскоре после того, как мы с ней провели так много веселых часов у храма Христа-Спасителя. Она не могла быть послушной арестанткой и наверняка провела в карцере больше часов, чем в камере. Троцкисты, сидевшие в те годы в Бутырках, нередко устраивали различного рода обструкции – стучали в двери камер, выкрикивали лозунги, переговаривались из окон (переговоры с выведенными на прогулку я застал еще весной 1936 года; с ними покончили, навесив на окна козырьки).
В двадцать девятом еще и "Интернационал" пели – всей тюрьмой. Станут к окнам и поют – обычно в ответ на какую-нибудь строгость или на избиение одного из товарищей. В Пугачевской башне Маруся была запевалой. Мне рассказал об этом товарищ, сидевший в соседней камере.
Но в харьковской внутренней тюрьме в те же самые месяцы с нами обращались куда либеральнее. Может быть, центральные образцы просто не успели еще дойти до периферии.
Прошло недели две или три – и вдруг меня вызывают в коридор. Там ждет мама. Ева, узнав о моем аресте от кого-то из друзей, телеграфировала ей – и она приехала, как некогда в Ананьев, искать мой труп на поле сражения, но сражения идейного. Она хочет спасти меня из тюрьмы, она просит меня отказаться от моих заблуждений. Но что ты знаешь о них, мама? Она знает – Ева ей все объяснила.
Вскоре газеты опубликовали заявление Смилги и Преображенского,[36] видных участников оппозиции. Они признали свои ошибки и отказались от них, ставя превыше всего единство партии. Витя Горелов решил присоединиться к их заявлению вместе со многими другими. Он явился к моему тезке-следователю и взял меня на поруки, чтобы побеседовать дома, а не в тюремной обстановке. Тогда это допускалось – нас еще не зачислили в разряд мошенников.
Я подписал простенькую бумажку с обязательством вернуться в тюрьму через трое суток, и мне по-джентльменски открыли дверь камеры. Мама к тому времени уже уехала.
Три дня, почти без сна, проговорили мы с Витей.
Мнение сразу не меняют, если оно – плод размышлений, основанных на фактах. Но честность мышления диктует тебе: ты обязан не отворачиваться от новых фактов, когда они встанут перед тобой – пусть даже они грозят разрушить твое прежнее, давно утвердившееся мнение.