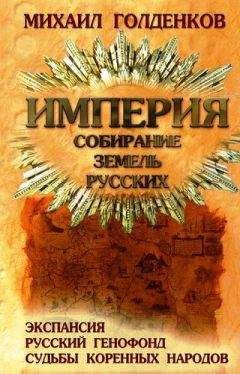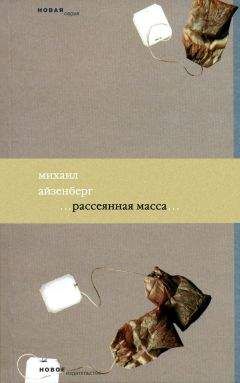Михаил Айзенберг - Контрольные отпечатки
Темнеет. Освещение как от спички, зажженной на балконе. Свет подтек в угол буфетного зеркала. Поблескивают подстаканники. Половина лица ПП в тени, с зеленоватым подсветом. Темнеет, сыреет, только ярче и резче проступает клетчатый узор на его безрукавке.
– Ну, давайте еще выпьем вина, я не могу отпустить вас в таком состоянии. Вы Янкова знаете? Так вот у него идея, что мир можно взять в скобки. Вселенная складывается блинчиком, миры то сбегаются, то разбегаются. Откуда, спрашивается, вся эта музыка? Кому все это интересно наблюдать? Значит, есть Божий суд? Конечно! Он недоступен звону злата. А вы не солнечная система, вы не Бог Саваоф, вы не Юпитер из жидкого водорода, вы не Венера с ее атмосферой. И не надо принимать на свой счет шишки, которые относятся к солнечной системе и ее устройству. Это все не к вам, это к «Науке и жизни».
…Вы скоро получите письмо от моей жены, где будет сказано, что вы не бережете здоровье дорогого Пал Палыча. Это ничего. Зиник тоже получал что-то подобное и ответил очень удачно. Я теперь все на вас сваливаю, на кого ж еще ссылаться?
…Вот такими движениями я четыре года заворачивал книги за прилавком магазина «Дружба». Леонову заворачивал, но это еще ничего. А вот когда приходил Ойзерман и не узнавал, и я ему заворачивал, а он в это время беседовал со своими аспирантками, – это уже было тяжело.
…Это вам подарок. Когда-то мы делали такие подарки только Зинику. А теперь вам. Вы вышли в «первого читателя». Произошло это, разумеется, случайно. Вы просто попались под руку. Но это и ценно. Вы должны гордиться тем, что это произошло случайно.
Не то чтобы я этим гордился, но и не огорчался. Принцип «чем случайней, тем вернее» всегда казался мне правильным. Я верил в случай. А во что еще можно было верить? С ПП меня свела оказия, случайная удача. В течение двенадцати лет литература была для меня одновременно и понятием, и явлением. У явления имелись имя, отчество и фамилия. Раз-два в месяц (потом реже) меня вызывали телефонным звонком на собеседование с литературой. Обычно – по старой памяти – в кафе «Артистическое», что в проезде Художественного театра, реже в кафе «Ярославна» на Остоженке-Метростроевской или почему-то в кафе «Улыбка» («Улитка»?) у Новодевичьего монастыря. Часто сидели втроем, с Леной Шумиловой, иногда вдвоем, и тогда я замечал, что на нас оглядываются – обращают внимание. Не только из-за его размашистой, аффектированной жестикуляции, но и просто с недоумением: кто такие? Отец и сын? Нет, не похоже. Кто тогда?
Павел Павлович действительно ровесник моего отца. Когда мы познакомились, ему было столько же лет, сколько сейчас мне. Он не казался особенно пожилым, но чудовищный опыт делал его человеком другого века и другого мира. «Странное впечатление человека без биографии, но с таинственной и значительной, трагической судьбой», – сказал о нем Айхенвальд. Облик ПП не совпадал с каким-то привычным типажом, не вычислялся. В моем обиходном опыте такие лица не значились. Они мелькали иногда в старых фильмах и там принадлежали каким-нибудь инженерам-спецам. Взгляд быстрый и переменчивый, лицо очень подвижное, выразительное, не то чтобы породистое, но какое-то прежнее. Прежней формовки, огранки. Прежней закалки. Закалка его и спасла, ее хватило еще на сорок шесть лет после того, как его выпустили умирать.
«Куда девалась ваша лихость? На Лубянке в первый раз в 20 лет: – Ну и работа у вас – в жопу врагам народа заглядывать! Виртухай промолчал и ничего не сказал. Лихой парень подумал: это я расскажу, скажем, Семену Владимировичу: он посмеется. Увы, не пришлось никому рассказывать» («Стилистика скрытого сюжета»).
Впрочем, о своем тюремном прошлом он писал мало и вспоминал редко, это было «исключение из правил».
– А что вы думаете, – самый интересный памятник литературы четырнадцатого века – это книга пыточных записей. А почему? А никакой отсебятины. Молчит – так и пишут: «Молчит». В нашем веке, конечно, все по-другому. В Лефортове особенно. Лефортово – военная тюрьма, там все по-другому. Днем койка поднимается и запирается ключом, под ней стульчак. Можно сидеть и ждать, а спать нельзя. Закроешь глаза, а виртухай через дверь: «Не спать!» А ночью вызывают на допросы, беседует с тобой вежливый человек. (У них все по отделам: где-то вежливо, в другом отделе – совсем не вежливо.) Присаживаешься копчиком на самый край стула, долго не просидишь. Это по ежовской терминологии «уебунген» от немецкого Übungen – «упражнения». А если спишь днем, то принимают меры: ночью приходят двое – или шестеро, если дерешься. Да, представьте, вот такая вдруг мальчишеская терминология: «В сто шестнадцатой дерется». Странно! Палачи, казалось бы, и вдруг: «он дерется». Но это же не пытки, верно? Никакой ни дыбы, ни «еще прикрутить». Ну, ударили, ну, упал, очнулся. Что это? Пытали меня? Не пытали? Не помню.
…В карцере, конечно, хуже. Лежишь нагишом на полу, а тебя еще холодной водой поливают. Зато в лазарете хорошо, – началась новая эра, я учился ходить на костылях. И такие все кругом интересные люди! Обычно ведь никого не видишь, даже если встречаешься в коридоре, вертухай кричит «К стенке!». Только однажды видел: бежит по коридору настоящий скелет. Но это случайность, ЧП. А тут: слева Колосков, секретарь ежовской канцелярии, справа секретарь Менжинского, для конспирации разговаривают между собой буквами – ничего не поймешь. «А. сказал Б., что В… м-м-м…» – «Да ну?» И оба смеются.
…Или Айхенвальд. Такой тихий интеллигентный человек, а ему надели наручники. Следователь в протоколе написал «еврей», а Айхенвальд и не еврей вроде бы. Раз-раз – и порвал протокол. А человек, можно сказать, полдня трудился в поте лица. Не знаю даже, с чем это сравнить? Ну, это как если бы я писал протокол по-японски. «ЧТО-О-О? Бумагу рвать?» И нажал на кнопку: «В наручники!»
…А у меня спросили: «Вы общественной работой занимались?» Это чтоб найти меня в той картотеке, где общественные работники. «Что вы имеете в виду?» – «Ну, были вы, например, работником райкома?» – «Нет, но я недолгое время был членом одного ЦК». Ага, это тоже, значит, общественная работа.
…Я вывернул шубу мехом наружу, а к костылям была привязана авоська с коньками. Потом было замечательно, когда вошел лейтенант и доложил: «Коньки на его ногу». А я-то рассчитывал сходить туда и через пару часов вернуться, у меня еще урок был назначен в тот день.
…Вы думаете, там обязательно становиться в позу: «Я – Сильвана Пампанини!»? Нет. Нет. Достаточно, чтобы пришла жена и повторяла все время одну и ту же фразу, вроде: вы знаете, он по ночам не спит, а утром не может встать на работу. И все в порядке. Как у Алика спрашивали: «Чем вы сейчас занимаетесь, Александр Сергеевич?» Тот честно отвечает: «Я доказал правомерность сложения и вычитания, а вот правомочность умножения и деления пока доказать не могу». И они радостно записывают: «Доказал правомочность сложения и вычитания, доказывает правомерность умножения и деления». «А как чувствуете себя?» – «Спасибо, хорошо». Вот это главный симптом: если говорит «хорошо чувствую», значит, пора забирать. «Да-да, конечно, вы хорошо себя чувствуете, да, вы совершенно здоровы, вам только надо немного успокоиться».