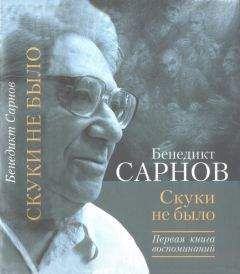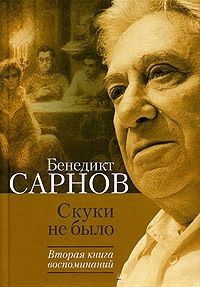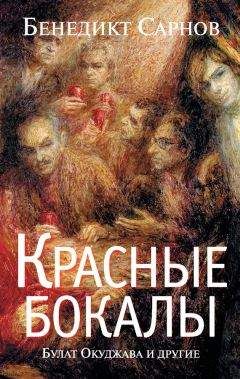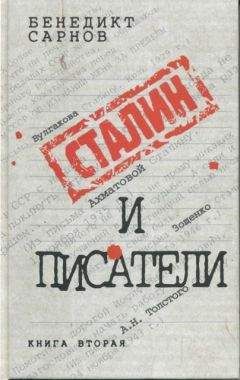Бенедикт Сарнов - Скуки не было. Вторая книга воспоминаний
Но очень скоро выяснилось, что так у нас дело не пойдет. Джану дома ждал муж и любимый пёс: скотч-терьер Томка. Меня — ревновавшая меня к Джане (как, впрочем, ко всей женской половине человечества) жена.
И тут остроумная Джана нашла гениальный выход. Давай, сказала она, скинемся и отдадим рукопись машинистке. За неделю она его нам перестукает. Нет? Ну, значит, надо найти двух машинисток.
Так мы и сделали. Машинистка (или машинистки) сделали четыре закладки, и сумма расходов, таким образом, была разложена на четверых: я приобщил к нашей авантюре моего друга Володю Корнилова (он тоже тогда бредил Хемингуэем), четвертого компаньона нашла Джана.
Вот так вышло, что я стал счастливым обладателем собственной рукописи не напечатанного у нас знаменитого хемингуэевского романа.
Под впечатлением некоторого сходства этого сюжета с эренбурговским я рассказал всю эту историю Илье Григорьевичу. Поводом, а также движущей силой моего рассказа был тот замечательный факт, что вот, оказывается, уже в сорок первом этот роман был переведен на язык наших родных осин, а читать его сегодня, даже тем, кому это посчастливилось, приходится, как и двадцать лет назад, тем же способом: передавая из рук в руки каждую прочитанную страничку.
Рассказывал я ему все это, и вдруг — осекся.
Заминка эта и даже некоторая неловкость, вдруг смявшая мою пылкую речь, была вызвана тем, что в памяти моей вдруг вспыхнула сцена из этого, недавно прочитанного мною хемингуэевского романа, одним из персонажей которой был не кто иной, как он сам, — тот, кому я сейчас изливаю свои восторги. И изображен он был в этой сцене — стараюсь выбрать самые мягкие выражения — в высшей степени нелицеприятно.
— Карков, — окликнул его человек среднего роста, у которого было серое, обрюзглое лицо, мешки под глазами и отвисшая нижняя губа, а голос такой, как будто он хронически страдал несварением желудка — Слыхали приятную новость?
Карков подошел к нему, и он оказал:
— Я только что узнал об этом. Минут десять, не больше. Сегодня под Сеговией фашисты целый день дрались со своими же. Им пришлось пулеметным и ружейным огнем усмирять восставших. Днем они бомбили свои же части с самолетов.
— Это верно? — спросил Карков.
— Абсолютно верно, — сказал человек, у которого были мешки под глазами. — Сама Долорес сообщила эту новость. Она только что была здесь, такая ликующая и счастливая… Она словно вся светилась от этой новости. Звук ее голоса убеждал в истине того, о чем она говорила. Я напишу об этом для «Известий». Для меня это была одна из величайших минут этой войны, минута, когда я слушал вдохновенный голос, в котором, казалось, сострадание и глубокая правда сливаются воедино. Она вся светится правдой и добротой, как подлинная народная святая. Недаром ее зовут la Pasionaria.
— Запишите это, — сказал Карков. — Не говорите все это мне. Не тратьте на меня целые абзацы. Идите сейчас же и пишите…
Его собеседник постоял еще несколько минут на месте, держа стакан водки в руках, весь поглощенный красотой того, что видели его глаза, под которыми набрякли такие тяжелые мешки; потом он вышел из комнаты и пошел к себе.
Сейчас, когда я переписывал эту коротенькую сценку из книги, изданной в 1982 году, мне показалось, что в том, рукописном варианте, который я читал в 1959-м, Эренбург (а в том, что это именно он, не может быть никаких сомнений) был изображен еще нелицеприятнее. Помнится, в том его описании упоминалась даже перхоть, которой были обсыпаны плечи его пиджака.
Но даже если это у меня явления так называемой ложной памяти, даже если этот портрет Эренбурга и не был слегка причесан и приглажен позднейшей редактурой, нельзя не признать, что и в этом печатном варианте выглядит Илья Григорьевич не самым лучшим образом. И дело, конечно, не в тяжелых мешках под глазами, и не в голосе его — таком, словно он хронически страдал несварением желудка. Даже и не в перхоти, если она там и была.
Гораздо обиднее тут то, что рассказанная им новость, по всей видимости, — полная лабуда. Во всяком случае, на фоне тех жестоких и страшных событий, которые читатель романа перед этим уже пережил вместе с его героями, она не может глядеться иначе как лабуда, способная ввести в заблуждение разве что читателей «Известий», для которых он напишет свою статью. А он, верящий в эту лабуду и вдохновляющийся ею, выглядит — и это в лучшем случае — прекраснодушным мудаком. Что, кстати сказать, подчеркивается иронической репликой Каркова (Кольцова): «Запишите это… Не тратьте на меня целые абзацы».
В общем, у меня были все основания предполагать, что Эренбург наверняка обиделся на Хемингуэя за этот явно карикатурный и даже издевательский его портрет. Не мог не обидеться! Да и то сказать: тут было на что обижаться.
Смяв свой восторженный монолог, я не сомневался, что увижу на его лице хотя бы мимолетный след этой давней обиды. Но ничего такого я на нем не увидел. А увидел только растроганность и нежность, вызванную то ли воспоминанием о том, как они вдвоем с Лапиным читали под грохот зениток тот хемингуэевский роман, то ли еще какими-то, другими, может быть, еще более ранними воспоминаниями. И в голосе его, когда он произнес несколько слов о Хемингуэе (он называл его «Хемингвей», — может быть, даже «Гемингвей», — ударяя на первый слог и произнося английское «дабл-ю», как русское «в») слышалась только влюбленность.
Я, конечно, не рискну утверждать, что его художественные склонности, привязанности и вкусы оставались неизменными. Но неизменной оставалась его верность этим своим привязанностям. И привязанность к тем, к кому он был привязан, любовь к тем, кого любил, всегда была для него выше личных обид и меняющихся личных отношений. (Так было не только с Хемингуэем, но и с Цветаевой, и с Пастернаком, и с Гроссманом — со многими.)
Один из появившихся в печати откликов на вышедший в свет первый том мемуаров Эренбурга был написан моим коллегой, а в то время даже и приятелем Эмилем Кардиным.
Эмиль был критиком отнюдь не официозным. Напротив: «левым», как это тогда у нас называлось. Можно даже сказать — крайне левым: чуть ли не после каждого его выступления в печати обрушивалась на него суровая партийная выволочка. (Писал он обычно на темы скорее общественные, чем литературные: о разного рода исторических штампах и фальсификациях; о том, например, что гвардейцев-панфиловцев было не двадцать восемь, а больше; о том, что никакого залпа «Авроры» в октябре 17-го года на самом деле не было: был не залп, а одиночный, да к тому же еще холостой выстрел.)