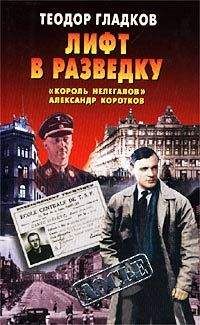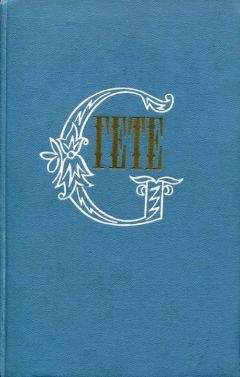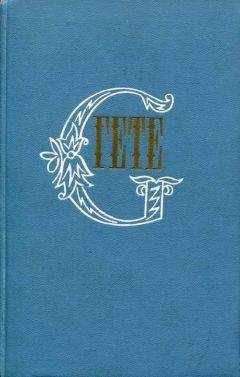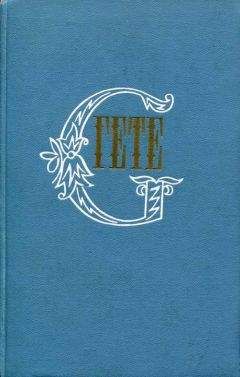Иоганн Гете - Собрание сочинений в десяти томах. Том третий. Из моей жизни: Поэзия и правда
Пустившись по такому пути, как правило, обнаруживаешь, что он нескончаем и безграничен, так было и со мной: пытаясь освоить причудливое немецко-еврейское наречие и научиться писать на нем так же свободно, как я уже научился на нем читать, я вскоре заметил, что мне недостает знания древнееврейского, без которого невозможно найти правильный подход к современному, пусть испорченному и искаженному, еврейскому языку, но все же восходящему к своему древнему прообразу. Посему я тотчас же объявил отцу, что мне нужно изучать древнееврейский, и стал настойчиво домогаться его согласия, так как заодно преследовал и другую, более высокую цель. Повсюду я слышал разговоры, что для понимания Ветхого, а также Нового завета необходимо знание не только новейших, но и древних языков. Новый завет я уже читал свободно, ибо по воскресеньям, чтобы и в этот день не оставаться праздным, должен был повторять так называемые Евангелия и Послания, читавшиеся в церкви, переводить их с греческого и частично комментировать. Так же хотел я впредь поступать и с Ветхим заветом, своеобычность которого особенно меня привлекала.
Отец, не любивший ничего делать наполовину, решил просить ректора франкфуртской гимназии ежедневно давать мне уроки, покуда я не усвою наиболее существенное в этом столь простом языке. Он надеялся, что на него мне потребуется если и не такой короткий срок, как на английский, то, скажем, вдвое больший.
Ректор Альбрехт был одним из оригинальнейших людей на свете: низкорослый, не толстый, но широкий в кости, весь какой-то бесформенный, он, хотя и не был горбуном, но в парике и мантии походил на Эзопа. На старческом его лице — ректору было уже за семьдесят — постоянно блуждала саркастическая усмешка, в больших же красноватых, но всегда блестящих глазах светился ум. Жил он при гимназии, помещавшейся в старом монастыре Босоногих братьев. Еще совсем ребенком я иногда сопровождал к нему родителей, и тамошние длинные переходы, часовни, превращенные в приемные комнаты, великое множество лестниц и закоулков наполняли меня радостным страхом. Не будучи назойливым, он всякий раз учинял мне экзамен, причем неизменно меня хвалил и ободрял. Однажды после публичных переходных экзаменов, раздавая серебряные praemia virtutis et diligentiae[9], он заметил меня, стоявшего в качестве стороннего наблюдателя возле кафедры. Видно, я так тоскливо поглядывал на мешочек с медалями в его руках, что он кивком подозвал меня, спустился на одну ступеньку и вручил мне серебряный кружок. Как же я ему обрадовался, хотя многие и сочли, что такой дар мальчику, не имеющему отношения к гимназии, — явное нарушение установленного порядка. Впрочем, славного старца это не тревожило, он и вообще-то любил разыгрывать из себя чудака. Как учитель он пользовался доброй славой и отлично знал свое дело, хотя преклонный возраст уже не позволял ему рачительно выполнять его. Но, пожалуй, еще больше, нежели подкошенное здоровье, ему мешали в этом внешние обстоятельства: как нам было уже давно известно, он не ладил ни с консисторией, ни с попечителями и учителями, ни, наконец, с отцами церкви. Имея склонность к сатире и острый взгляд, подмечающий все людские ошибки и недостатки, он не желал держать себя в узде, и школьные программы, равно как и публичные свои речи, следуя Лукиану, чуть ли не единственному писателю, которого он читал и почитал, обильно уснащал весьма острыми приправами.
К счастью для тех, кем он был недоволен, он никогда ничего не говорил в упор и метил в порицаемые им недостатки разве что цитатами, намеками, классическими примерами да изречениями из Библии. Выступления его были неприятны (речи он всегда читал по записке), невнятны и к тому же нередко прерывались кашлем, но чаще глухим, как из бочки, смехом, которым он возвещал и сопровождал особо язвительные места. Этот странный человек на поверку оказался кротким и сговорчивым. Ежедневно в шесть часов вечера я отправлялся к нему и неизменно испытывал тайную радость, когда дверь с колокольчиком закрывалась за мной и мне предстояло идти по длинному и темному монастырскому коридору. Мы сидели в библиотеке за обитым клеенкою столом моего учителя; рядом с ним неизменно лежал зачитанный томик Лукиана.
Несмотря на его благожелательность, занятия наши начались с некоторого неудовольствия, ибо он не удержался от язвительных замечаний касательно моего интереса к древнееврейскому языку. Я умолчал о своих личных намерениях и упомянул только о стремлении лучше понять библейские тексты. Он усмехнулся и заметил, что хватит с меня, если я хоть читать-то выучусь. В душе я рассердился и, когда мы подошли к буквам, сосредоточил на них все свое внимание. Передо мной был алфавит, чем-то сходный с греческим; начертания его знаков легко запоминались, наименования были частично мне знакомы. Я очень быстро его усвоил и запомнил, полагая, что мы вот-вот перейдем к чтению. Читать приходилось справа налево, мне это было давно известно. Но тут на меня надвинулось целое полчище мелких буквочек и значков, точек и черточек, которые, собственно, должны были изображать гласные, что меня удивило до чрезвычайности, так как в полном алфавите часть гласных, конечно, имелась, прочие же, видимо, были скрыты под другими наименованиями. Слышал я также, что еврейская нация, покуда длился ее расцвет, довольствовалась теми первоначальными знаками и никакими другими для чтения и письма не пользовалась. Я бы с превеликим удовольствием пошел по этой издревле проторенной и, как мне думалось, более приемлемой дороге, но мой старик не без строгости заявил, что надо руководствоваться грамматикой в том виде, в каком она сложилась и утвердилась. Вдобавок чтение без всех этих точек и черточек — дело очень нелегкое и доступное лишь ученым или людям с многолетним опытом за плечами. Итак, мне пришлось смириться и взяться за изучение этих мелких значков; но тут я только пуще запутался в противоречиях. Вдруг некоторые из первых крупных букв, оставаясь на том же месте, утрачивали свое значение во имя того, чтобы маленькие их потомки не стояли здесь понапрасну. То они подавали знак к легчайшему придыханию, к более или менее твердому гортанному звуку, а то вдруг являлись либо подтверждением, либо отрицанием. Но под конец, когда тебе казалось, что все уже усвоено, некоторые крупные, равно как и мелкие персонажи, вдруг получали отставку, и выходило, что глазу все равно оставалось очень много работы, а губам — очень мало.
Теперь, когда я должен был на незнакомом тарабарском наречии, запинаясь, прочитывать то, что давно было мне знакомо по содержанию, причем меня предостерегали, что носового гортанного произношения мне все равно не добиться, я поневоле отвлекся от существа дела и по-ребячески забавлялся диковинными именами толпящихся передо мною знаков. Среди них были императоры, короли и герцоги, которые, доминируя то здесь, то там в качестве акцентов, немало меня потешали. Впрочем, и эти пустые забавы вскоре потеряли свою прелесть. Но тем крепче держало меня то, что при чтении, переводе, повторении и затверживании наизусть передо мной с небывалой живостью выступало содержание книги, а только оно и было мне интересно, и только о нем я с жадностью расспрашивал славного старца. Мне уже давно бросилось в глаза, что легенда зачастую противоречит действительному и возможному, и я не раз ставил в тупик своих учителей вопросами относительно солнца, остановившегося в Гаване, и луны, в долине Аналонской, не говоря уж о других несообразностях. Все это ожило во мне теперь, когда я, желая овладеть древнееврейским, занялся исключительно Ветхим заветом и изучал его уже не в Лютеровом переводе, а в дословной параллельной версии Себастиана Шмида, которую поспешил раздобыть для меня отец. Но с этого времени в наших занятиях, увы, образовались пробелы по части упражнений в языке. Чтению, пересказу, грамматике, письму и произношению едва-едва отводилось полчаса: я с места в карьер начинал доискиваться сути и, хотя мы еще только разбирали первую книгу Моисея, забегал вперед и расспрашивал о том, что интересовало меня в дальнейших книгах. Поначалу славный старик пытался удержать меня от подобных отступлений, но потом они, видимо, стали занимать его самого. По своему обыкновению, он кашлял и хохотал, остерегаясь сообщить мне что-нибудь такое, что могло бы его скомпрометировать, но это ничуть не умаляло моей настойчивости. А поскольку мне было важнее делиться своими сомнениями, нежели разрешать их, то я набирался все большей храбрости, он же своим поведением только поощрял меня в моем рвении. В конце концов мне уже ничего не удавалось из него выуживать, он только смеялся, тряся животом, и восклицал: «Ай да чудила! Ну и смешной же ты мальчонка!»