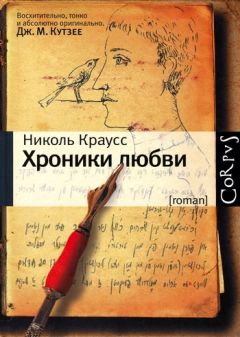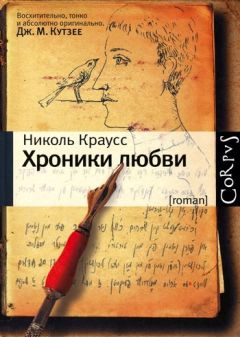Чарльз Буковски - Письма о письме
[…] про «Женщин», 100 страниц поправок где-то потерялись. Некоторые, очевидно, все-таки внесены… например, в конце я придал коту черную шерсть и желтые глаза… Так или иначе, это вполне себе бардак, и мне кажется, Джон Мартин попросту как-то спятил. Мне кажется, это довольно позорно – вписывать туда его «писанину» в смысле. Наверно, мы все время от времени сходим с ума. Так или иначе, 2-е издание будет читаться лучше. Наверно, когда люди сравнят 2 издания, подлинной истории не узнают никогда. Скорей станут думать, что я в старческом маразме и кто-то другой взял и все за меня поменял. Принять это довольно круто, потому что я не против, если меня критикуют за то, что написал я сам, но так подставляться ради кого-то другого нехорошо. Во всяком случае, в будущей работе мне придется следить за Джоном пристальней. Сомневаюсь, что он мне опять пиздец устроит. Иногда от каких-то поступков и методов Мартина меня довольно-таки тошнит. Хорошо б ты был моим чертовым редактором, но благодаренье богам, по крайней мере, ты мне переводчик, агент и друг. (о да, Джон на самом деле сказал: «Иногда машинистке скучно, и она что-нибудь вставляет». Интересно, Фолкнера и Дж. Джойса такое доставало?) […]
Я сейчас занят киносценарием [ «Пьяни»] с Барбе [Шрёдером], 30 или около страниц; но меня удивляет – он хочет сюжет и развитие характера. бля, мои персонажи редко развиваются, они слишком ебнуты. даже печатать не могут. Мне нравится отпускать все на волю, и бывает так, что и объяснять про них нечего, у них сплошь зазубренные края чего-то. Я не против пары намеков на то, каким должно быть кино, но когда кто-то начинает дергать моих кукол за ниточки, те часто забывают танцевать, забывают, как вообще что-то делать. ах что ж, ах что ж.
[Джону Фанте]2 декабря 1979 г.Хорошо было услышать окончание вашего романа по телефону; это снова Фанте от и до, высшего качества, единственного качества, как всегда. У меня внутри все чертовски воспрянуло – знать, что вы до сих пор это делаете. Вы были с самого начала моим главным зарядом и вот снова заряжаете меня после стольких лет.
У меня случился бессильный период, а таких бывает немного. Не хочу сказать, что всегда пишу исключительно, я о том, что мне всегда писалось. А недавно прекратило. Ну, несколько стихов как-то ночью, но все уже как-то не так. Ловлю себя на том, что рявкаю на Линду, а как-то вечером даже пнул кошку. Мне не нравится вести себя, как маленькая прима д., но похоже на то, что, если из меня не прет, я отравляюсь, забываю, как смеяться, понимаю, что больше не слушаю свою симфоническую музыку по радио, а когда гляжу в зеркало, вижу там очень мерзкого человека, крохотные глазки, желтая рожа – я какой-то съеженный, бесполезный, сухая фиговина. В смысле, когда письмо уходит, что там вообще, что остается? Рутина. Рутинные движения. Мысли-оладьи. Я не могу с этим постылым танцем.
Услышать что-то от вас, когда Джойс прочла мне конец вашего романа, услышать напевность мужества и страсти Фанте – это выпнуло меня из моей мертвятины. Вино откупорено и радио включено, и я заправлю несколько листков в машинку, и все придет снова, из-за вас. Придет из-за Селина, и Доса, и Гамсуна, но главное – из-за вас. Не знаю, где вы это берете, но боги вас точно им набили. Вы значили и по правде значите для меня больше любого человека, живого или мертвого. Я должен был вам это сказать. Вот я начинаю чуточку улыбаться. Спасибо вам, Артуро [Бандини].
1980
[…] Генри Миллер. Я немного чего почувствовал, когда он ушел, потому что ожидал этого. Понравилось мне то, что, когда он уходил, он обратился к живописи, и то, что я видел у него, – очень хорошо, тепло, жаркий цвет. Немного таких жизней, как у него. В письме своем он сделал это, вот так, когда никто больше не проходил этого, не проделывал. Он расколол твердый черный грецкий орех. Мне всегда было непросто его читать, потому что он съезжал в этот спермодрочковый лепет «звезднопутевого» созерцанья, но хорошие части от этого делались только лучше, когда до них наконец добирался, однако честно – я по большей части сдавался. Лоренс был другой, он был крепок всю дорогу, а вот Миллер был современней, не такой вычурный, пока не пускался в звезднопутевый лепет. Думаю, беда, что Миллер накликал (и он в этом не виноват), в том, что, когда подторговывал и навязывал свою писанину (поначалу), он заставлял других думать, что так оно и делается, поэтому теперь у нас эти батальоны полуписателей стучатся в двери, и торгуют, и объявляют, что они гении, поскольку их «не открыли», а сам факт их неоткрытия убеждает их в собственной гениальности, потому что «мир к ним еще не готов».
К большинству их мир никогда готов не будет; писать они не умеют, их просто не коснулась благодать слова или пути. Тех, кого я встречал или читал, во всяком случае. Надеюсь, есть и другие. Они нужны нам. Тут все кругом изрядно не пахано. Но даже как у тех, кто бродит вокруг с гитарами, я обнаружил, что наименее талантливые вопят громче всего, больше всех бранятся и больше всех уверены в себе. Они спали у меня на кушетках, и блевали мне на коврики, и пили мою выпивку, и рассказывали мне, непрерывно, о своем величии. Я не издатель песен, или стихов, или романов и/или рассказов. У поля боя есть адрес; выпрашивать у друзей, или подружек, или остальных – это мастурбация в небо. Да, я сегодня вечером пью слишком много вина и, наверное, голова у меня кружится от посетителей. Писатели, прошу вас, спасите меня от писателей; беседовать с блядьми с Альварадо-стрит гораздо интересней, да и по́длиннее. […]
Генри Миллер. Чертовски добрая душа. Ему нравился Селин, как Селин нравится мне. Я так и сказал Нили Черри: «вся тайна в его строке». И я имел в виду одну строку за раз. Строки, в которых фабрики, и башмак на боку валяется рядом с пивной банкой в гостиничном номере. Тут всё, оно вспыхивает туда-сюда. Они нас не побьют, даже в могилах. Шуточка-то наша; мы идем в высоком стиле; они с нами ничего сделать не могут.
[Майку Голду]4 ноября 1980 г.Я знаю еще одного редактора, который собирался выпустить целый номер «отказов», напечатать отвергнутый материал и мысли писателей об оном. Я ничего ему не отправлял, сказав, что мое отвергнутое и должно оставаться отвергнутым.
Номер так и не вышел. Полагаю, когда ред разложил перед собой отвергнутый материал и жалобы писателей, у него получился маленький дом ужасов вырождения.
Конечно, и в крупнотиражных журналах, и в маленьких печатается много плохого материала, и в книгах тоже. Плохие редакторы продолжают редактировать, а плохие писатели продолжают писать. Издание по большей части происходит через политику, друзей и природную глупость. А то немногое хорошее письмо, что выходит, преимущественно случайно либо математическая редкость: когда хороший писатель сталкивается с хорошим редактором.