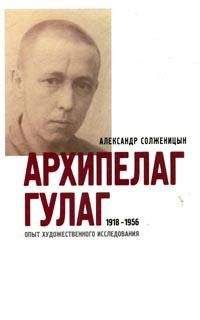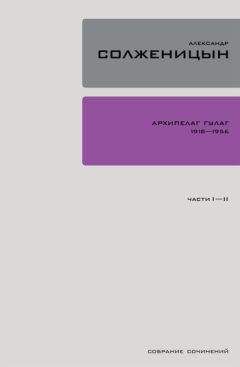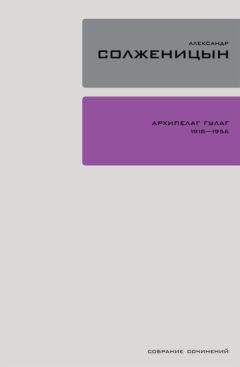Александр Солженицын - Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956: Опыт художественного исследования. Т. 1
Как не ошибиться в этом поединке? Кто бы не ошибся?
Мы сказали "в идеале должен быть одинок". Однако в тюремном переполнении 37-го года (да и 45-го тоже) этот идеальный принцип одиночества свежевзятого подследственного не мог быть соблюдён. Почти с первых же часов арестант оказывался в густонаселённой общей камере.
Но тут были свои достоинства, перекрывавшие недочёт. Избыточность наполнения камеры не только заменяла сжатый одиночный бокс, она проявлялась как первоклассная пытка, особенно тем драгоценная, что длилась целыми сутками и неделями — и безо всяких усилий со стороны следователей: арестанты пытались арестантами же! Наталкивалось в камеру столько арестантов, чтобы не каждому достался кусочек пола, чтобы люди ходили по людям и даже вообще не могли передвигаться, чтобы сидели друг у друга на ногах. Так, в кишинёвских КПЗ ("камерах предварительного заключения") в 1945 в одиночку вталкивали по восемнадцать человек, в Луганске в 1937 — по пятнадцать,[41] а Иванов-Разумник в 1938 в стандартной бутырской камере на 25 человек сидел в составе ста сорока. Быт камер 1937-38 у него очень хорошо описан. Уборные так перегружены, что оправка только раз в сутки и иногда даже ночью, как и прогулка! Он же в Лубянском приёмном «собачнике» подсчитал, что целыми неделями их приходилось на 1 квадратный метр пола по три человека (прикиньте, разместитесь![42]). В собачнике не было окна или вентиляции, от тел и дыхания температура была 40–45 градусов, все сидели в одних кальсонах (зимние вещи подложив под себя), голые тела их были спрессованы, и от чужого пота кожа заболевала экземой. Так сидели они неделями, им не давали ни воздуха, ни воды (кроме баланды и чая утром).
В тот год в Бутырках свежеарестованные (уже обработанные баней и боксами) по несколько суток сидели на ступеньках лестниц, ожидая, когда уходящие этапы освободят камеры. Т-в сидел в Бутырках семью годами раньше, в 1931, говорит: всё забито под нарами, лежали на асфальтовом полу. Я сидел семью годами позже в 1945, - то же самое. Но недавно от М. К. Б-ч я получил ценное личное свидетельство о бутырской тесноте 1918 года: в октябре того года (второй месяц красного террора) было так полно, что даже в прачечной устроили женскую камеру на 70 человек! Да когда ж тогда Бутырки стояли порожние?
Если при этом параша заменяла все виды оправки (или, наоборот, от оправки до оправки не было в камере параши, как в некоторых сибирских тюрьмах); если ели по четверо из одной миски — и друг у друга на коленях; если то и дело кого-то выдёргивали на допрос, а кого-то вталкивали избитого, бессонного и сломленного; если вид этих сломленных убеждал лучше всяких следовательских угроз; а тому, кого месяцами не вызывали, уже любая смерть и любой лагерь казались легче их скорченного положения, — так может быть это вполне заменяло теоретически идеальное одиночество? И в такой каше людской не всегда решишься, кому открыться, и не всегда найдёшь, с кем посоветоваться. И скорее поверишь пыткам и избиениям не тогда, когда следователь тебе грозит, а когда показывают сами люди.
От самих пострадавших ты узнаешь, что дают солёную клизму в горло и потом на сутки в бокс мучиться от жажды (Карпунич). Или тёркой стирают спину до крови и потом мочат скипидаром. Комбригу Рудольфу Пинцову досталось и то, и другое, и ещё иголки загоняли под ногти, и водой наливали до распирания — требовали, чтобы подписал протокол, что хотел на октябрьском параде двинуть бригаду танков на правительство.[43] А от Александрова, бывшего заведующего художественным отделом ВОКС (Всероссийского общества культурной связи с заграницей) — с перебитым позвоночником клонящегося на бок, не могущего сдержать слёз, можно узнать, как бьёт (в 1948) сам Абакумов.
Да, да, сам министр госбезопасности Абакумов отнюдь не гнушается этой чёрной работы (Суворов на передовой!), он не прочь иногда взять резиновую палку в руки. Тем более охотно бьёт его заместитель Рюмин. Он делает это на Сухановке в «генеральском» следовательском кабинете. Кабинет имеет по стенам панель под орех, шёлковые портьеры на окнах и дверях, на полу большой персидский ковёр. Чтобы не попортить этой красоты, для избиваемого постилается сверх ковра грязная дорожка в пятнах крови. При побоях помогает Рюмину не простой надзиратель, а полковник. "Так, — вежливо говорит Рюмин, поглаживая резиновую дубинку диаметром сантиметра в четыре, — испытание бессонницей вы выдержали с честью.- (Александр Долган хитростью сумел продержаться месяц без сна: он спал стоя.) — Теперь попробуем дубинку. У нас больше двух-трёх сеансов не выдерживают. Спустите брюки, ложитесь на дорожку." Полковник садится избиваемому на спину. Долган собирается считать удары. Он ещё не знает, что такое удар резиновой палкой по седалищному нерву, если ягодица опала от долгого голодания. Отдаётся не в место удара — раскалывается голова. После первого же удара избиваемый безумеет от боли, ломает ногти о дорожку. Рюмин бьёт, стараясь правильно попадать. Полковник давит своей тушей — как раз работа для трёх больших погонных звезд ассистировать всесильному Рюмину! (После сеанса избитый не может идти, его и не несут, а отволакивают по полу. Ягодица вскоре распухнет так, что невозможно брюки застегнуть, а рубцов почти не осталось. Разыгрывается дикий понос, и сидя на параше в своей одиночке, Долган хохочет. Ему предстоит ещё и второй сеанс и третий, лопнет кожа; Рюмин, остервенясь, примется бить его в живот, пробьёт брюшину, в виде огромной грыжи выкатятся кишки, арестанта увезут в Бутырскую больницу с перитонитом, и временно прервутся попытки заставить его сделать подлость.)
Вот как могут и тебя затязать! После этого просто лаской отеческой покажется, когда кишинёвский следователь Данилов бьёт священника отца Виктора Шиповальникова кочергой по затылку и таскает за косу. (Священников удобно так таскать; а мирских можно — за бороду, и проволакивать из угла в угол кабинета. А Рихарда Ахолу — финского красногвардейца, участника ловли Сиднея Рейли и командира роты при подавлении Кронштадтского восстания, поднимали щипцами то за один, то за другой большой его ус и держали по десять минут так, чтобы ноги не доставали пола.)
Но самое страшное, что с тобой могут сделать, это: раздеть ниже пояса, положить на спину на полу, ноги развести, на них сядут подручные (славный сержантский состав), держа тебя за руки, а следователь — не гнушаются тем и женщины — становятся между твоих разведённых ног и носком своего ботинка (своей туфли) постепенно, умеренно и всё сильней, прищемляя к полу то, что делало тебя когда-то мужчиной, смотрит тебе в глаза и повторяет, повторяет свои вопросы или предложения предательства. Если он не нажмёт прежде времени чуть сильней, у тебя будет ещё пятнадцать секунд вскричать, что ты всё признаешь, что ты готов посадить и тех двадцать человек, которых от тебя требуют, или оклеветать в печати свою любую святыню…