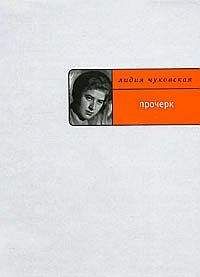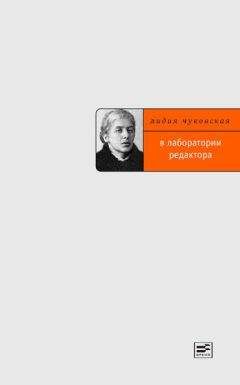Лев Троцкий - Моя жизнь
Много было интересных фигур, всех не перечислить. Была прекрасная молодежь, очень культурная, прошедшая техническую школу при судостроительном заводе. Она понимала руководителя с полуслова. Революционная пропаганда оказалась, таким образом, несравненно доступнее, чем рисовалась в мечтах. Нас поражала и опьяняла высокая продуктивность работы. Из рассказов о революционной деятельности мы знали, что число распропагандированных рабочих выражалось обычно немногими единицами. Революционер, который привлек двух-трех рабочих, считал это неплохим успехом. У нас же число рабочих, входивших и желавших входить в кружки, казалось практически неограниченным. Недостаток был только за руководителями. Не хватало литературы. Руководители рвали друг у друга из рук один-единственный заношенный рукописный экземпляр «Коммунистического манифеста» Маркса – Энгельса, списанный разными почерками в Одессе, с многочисленными пропусками и искажениями.
Вскоре мы сами начали создавать литературу. Это и было собственно началом моей литературной работы. Оно почти совпало с началом революционной работы. Я писал прокламации или статьи, затем переписывал их печатными буквами для гектографа. О пишущих машинках тогда еще не подозревали. Я выводил печатные буквы с величайшей тщательностью, считая делом чести добиться того, чтобы даже плохо грамотному рабочему можно было без труда разобрать прокламацию, сошедшую с нашего гектографа. Каждая страница требовала не менее двух часов. Иногда я в течение недели не разгибал спины, отрываясь только для собраний и занятий в кружках. Зато какое чувство удовлетворения доставляли сведения с заводов и с цехов о том, как рабочие жадно читали, передавали друг другу и горячо обсуждали таинственные листки с лиловыми буквами. Они воображали себе автора листков могущественной и таинственной фигурой, которая проникает во все заводы, знает, что происходит в цехах, и через 24 часа уже отвечает на события свежими листками.
Первоначально мы варили гектограф и печатали прокламации у себя в комнате по ночам. Кто-нибудь стоял во дворе на страже. В открытой печке заготовлены были спички и керосин, чтоб в случае опасности сжечь улики. Все было крайне наивно. Но николаевские жандармы были тогда немногим опытнее нас. Позже мы перенесли свою печатню на квартиру пожилого рабочего, который потерял зрение при несчастном случае в цехе. Квартиру он предоставил нам без колебаний. «Для слепого везде тюрьма», – говорил он со спокойной усмешкой. Постепенно мы сосредоточивали у него большой запас глицерина, желатина и бумаги. Работали ночью. Запущенная комната с потолком над самой головой имела жалкий, поистине нищенский вид. На железной печке мы готовили революционное варево, выливая его затем на жестяной лист. Слепой уверенней всех двигался в полутемной комнате, помогая нам. Молодой рабочий и работница с благоговением взглядывали друг на друга, когда я снимал с гектографа свежеотпечатанный лист. Если б сверху «трезвым» взглядом поглядеть на эту группку молодежи, копошащейся в полутьме вокруг жалкого гектографа, – какой убогой фантазией представился бы ее замысел повалить могущественное вековое государство? И однако же замысел удался на протяжении одного человеческого поколения: до 1905 г. прошло с тех ночей всего восемь лет, до 1917 – неполных двадцать лет.
Устная пропаганда не давала мне, пожалуй, такого удовлетворения, как печатная. Знания были недостаточны, и не хватало уменья надлежащим образом преподнести их. Речей в подлинном смысле у нас почти еще не было. Один только раз в лесу, в день первого мая, мне пришлось сказать нечто вроде речи. Это повергло меня в величайшее смущение. Каждое собственное слово, прежде чем оно выходило из горла, казалось мне невыносимо фальшивым. Но беседы в кружках удавались иногда неплохо. В общем же революционная работа шла полным ходом. Связи с Одессой я поддерживал и развивал. Вечером я шел на николаевскую пристань, брал за рубль билет третьего класса, укладывался на палубе парохода, поближе к трубе, клал под голову пиджак и укрывался пальто. Утром я просыпался в Одессе и отправлялся по знакомым адресам. Следующую ночь опять проводил на пароходе. Таким образом, я не тратил лишнего времени на езду. Связи мои в Одессе неожиданно обогатились. У входа в Публичную библиотеку я познакомился с рабочим в очках: мы поглядели друг на друга пристально и догадались друг о друге. Это был Альберт Поляк, наборщик, организатор знаменитой впоследствии центральной типографии партии. Знакомство с ним составило эпоху в жизни нашей организации. Уже через несколько дней я доставил в Николаев чемодан, наполненный нелегальной литературой заграничного издания. Это были сплошь новенькие агитационные брошюрки в веселых цветных обложках. Мы по многу раз открывали чемодан, чтоб полюбоваться своим сокровищем. Брошюрки быстро разошлись по рукам и сильно подняли наш авторитет в рабочих кругах.
От Поляка я случайно узнал в беседе, что техник Шренцель, выдававший себя за инженера и давно тершийся вокруг нас, – старый провокатор. Это был глупый и назойливый человечек в форменной фуражке со значком. Мы инстинктивно не доверяли ему, но кое-кого и кое-что он знал. Я пригласил Шренцеля на квартиру к Мухину. Здесь я подробно изложил биографию Шренцеля, не называя его, и довел его этим до полной невменяемости. Мы пригрозили ему, в случае выдачи, короткой расправой. По-видимому, это подействовало, так как месяца три после того нас не тревожили. Зато после нашего ареста Шренцель громоздил в своих показаниях ужасы на ужасы.
Организацию мы назвали «Южно-русским рабочим союзом», имея в виду втянуть и другие города. Я составил устав Союза в социал-демократическом духе. Администрация пыталась выступать против нас с речами на заводах. Мы на другой день отвечали прокламациями. Эта дуэль взволновала не только рабочих, но и широкие круги городского населения. Весь город говорил под конец о революционерах, которые наводняют заводы своими листками. Наши имена называли со всех сторон. Но полиция медлила, не веря, что «мальчишки из сада» способны вести такую кампанию, и предполагая, что за нашей спиною стоят более опытные руководители. Они подозревали, по-видимому, старых ссыльных. Это дало нам два-три лишних месяца. Но в конце концов слежка за нами приняла слишком явный характер, и жандармы узнавали неизбежно один кружок за другим. Мы решили на несколько недель разъехаться из Николаева в разные стороны, чтоб оборвать полицейскую нить. Я должен был поехать в деревню к родителям, Соколовская с братом – в Екатеринослав и т. д. В то же время мы твердо решили в случае повальных арестов не скрываться, а дать арестовать себя, чтоб жандармы не могли говорить рабочим: «Руководители вас покинули».