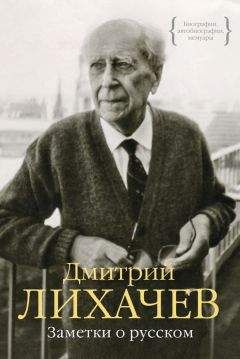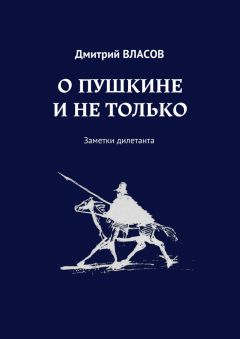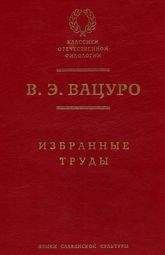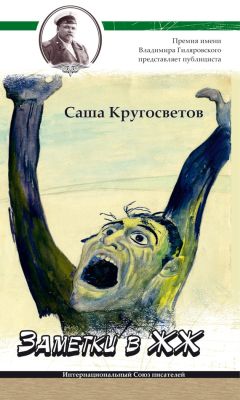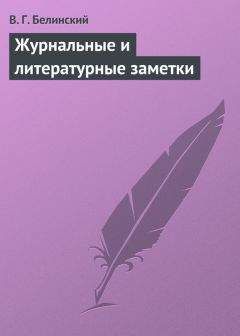Ксения Кривошеина - Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней
Библейское имя героини Руфь означает «подруга», «помощница», «благодетельница»; библейская Руфь согласно тексту (Руфь 1:2) после смерти своего мужа-иудея вместе со свекровью отправляется к нему на родину и присоединяется к народу Израиля. Выйдя замуж за своего родственника по мужу Вооза, она остается как бы заложницей семьи и работает на нее. Героиня Е. Ю. поступает иначе, и тут поэтесса, конечно, олицетворяет себя с новой Руфью, она подводит итог и уходит, для того чтобы начать работу для других (дальних)и начать новое восхождение. К своему Горнему пути она готовится ощупью…
Теперь я вновь бичую тело;
Обречена душа; прости.
Напрасно стать земной хотела,
Мне надо подвиг свой нести.
«Руфь» вышла 10 апреля 1916 года, а 20 апреля книга уже была у Блока, на ее титульном листе рукою поэтессы было написано: «Если бы этот язык мог стать совсем понятным для Вас – я была бы обрадована».
«В это время, – пишет Елизавета Юрьевна, – мрачней и мрачней становилась петербургская ночь». Все уже, и не только Блок, чуяли приближение конца. Летом ответ от него: «Я теперь табельщик 13-й дружины Земско-городского союза. На войне оказалось только скучно. Какой ад напряжения. А Ваша любовь, которая уже не ищет мне новых царств. Александр Блок».
Разговор с поэтом продолжается, и в октябре 1916 года она пишет Блоку: «Начинается моя любимая осенняя тишь, и все, бывшее в году, подсчитывается… <…> Особенно трудно сознание, что каждый только в возможности вестник Божий, а для того чтобы воплотить эту возможность, надо пройти через самый скудный и упорный труд. И кажется мне, что цель – этого достигнуть, ибо наступает сочетание, дающее полную уверенность в вере и полную жизнь. Тогда закон, данный Богом, сливается с законом человеческой жизни».
В своей новой книге Елизавета Юрьевна поместила стихотворение, посвященное Александру Блоку. Она вспоминала позже об одной (фактически последней) его просьбе, относящейся к их весенней (1916 года) встрече: «Я хотел бы знать, что часто, часто, почти каждый день вы проходите внизу под моими окнами. Только знать, что кто-то меня караулит, ограждает. Пройдете, взглянете наверх. Это все». Ее ответом, памятью о нем стало это стихотворение, где есть атмосфера города, близость Финского залива, окна его квартиры на Офицерской:
Смотрю на высокие стекла,
А постучаться нельзя;
Как ты замерла и поблекла,
Земля и земная стезя.
Над западом черные краны
И дока чуть видная пасть;
Покрыла незримые страны
Крестом вознесенная снасть.
На улицах бегают дети,
И город сегодня шумлив,
И близок в алеющем свете
Балтийского моря залив.
«Руфь» – книга мучительных раздумий и мрачных предчувствий приближающегося конца. Эсхатологические настроения в обществе были усилены затянувшейся войной. Во многих строках ее звучит тема обреченности: «Мы все полны святой тревоги», «Близится звенящий миг», «Настанет час последний», «Близок белый ослепительный срок», «Последние сроки горят», «Надеяться сердце устало», «Близок наших дней исход», «Духом приготовимся к исходу», «Мой дух к мучению готов»… Только вера в «вечный путь», в причастность к чуду еще дает ей силы держаться:
Брат, верь: язык Святого Духа
Огнем прорежет вечный мрак.
Литератор и философ Г. Беневич[61], разбирая смысл сборника «Руфь», пишет: «В отличие от библейской Руфи, которая собирала колосья (на поле Вооза, еще до того, как он взял ее в жены) для себя и своей свекрови (см.: Руфь, 2), лирическая героиня Кузьминой-Караваевой на поле народном собирает урожай для других – для баб, которые в голодную зиму находят несмолотые колосья на пороге. Стихотворение следует толковать в контексте диады “народ и интеллигенция”. Интеллигент-народник (чужой для народа, бывший “язычник”) не просто сливается с народом, входит в него, он, работая в народном поле, приносит народу нечто, работает не для себя, а для него – такова “народническая” программа Кузьминой-Караваевой. Колосья, приносимые интеллигентом народу, “не смолоты”, т. е. это – приносимое – следует еще обработать. Необходимо понять, что же поэтесса собиралась принести народу? Здесь мы снова встречаемся с поэтикой загадки, полем интерпретации, каковым является Библия».
Собирала колосья в подол.
Шла по жнивью чужому босая;
Пролетала над избами сел
Журавлей вереница косая.
И ушла через синий туман
Далеко от равнины Вооза;
И идет средь неведомых стран,
Завернувшись в платок от мороза.
А журавль, уплывая на юг,
Никому, никому не расскажет,
Как от жатвы оставшийся тук
Руфь в снопы золотистые вяжет.
Лишь короткий подымется день
И уйдет хлебороб на работу,
На равнинах чужих деревень
Руфь начнет золотую охоту.
Низко спустит платок на свой лоб,
Чтоб не выдали южные косы,
Соберет свой разбросанный сноп,
Обойдет все холмы и откосы.
А зимою, ступив чрез порог,
Бабы часто сквозь утренний холод
На снегу замечали, у ног,
Сноп колосьев несмолотых…
Так заканчивается книга “Руфь”, в которой угадывается путь самой поэтессы – собирание колосьев, тяжелая работа не только на ближнего, но и для дальнего… для незнакомого».
В повествовании о Лизе Пиленко, ставшей поэтессой Кузьминой-Караваевой, мы подошли к важной полосе ее жизни – к моменту оформления, по ее же словам, будущего монашества в миру. Встав на путь деятельного милосердия, монахиня Мария, основательница «Православного дела», напишет: «Мы собрались не для теоретического изучения социальных вопросов в духе православия – мы хотим поставить нашу социальную мысль в теснейшую связь с жизнью и работой. Вернее, из работы мы исходим и ищем посильного богословского ее осмысления»[62]. Книга «Руфь» была зерном, брошенным на русской земле, но которое взошло и заколосилось далеко от родины: «Как паломник иду я к восходу солнца. Тайна, влекущая меня с высоты, открылась мне: “Если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода” («Руфь»).
Да, куда тропа земная
Не вела б меня теперь, —
Я сынам земным родная,
Брат мне, – каждый дикий зверь.
В небо чуждое не манит
Путь к пылающей звезде:
Здесь зерно звездою канет
В каждой взрытой борозде.
И земля, – но не планета,
А земной единый мир,
В синий плащ небес одета,
Будет править долгий пир.
Очень точное определение формирования личности м. Марии дал французский православный богослов и философ Оливье Клеман[63]: «В духовной истории православия судьба матери Марии одновременно становится неким итогом и пророчеством. К. П. Победоносцев, грозный обер-прокурор Святейшего синода, в детстве учил ее (она была его любимицей) любви к ближнему вместо любви к дальнему. Она открыла, что он любил человека, а не человечество. Революционеры учили ее любви к дальнему. Революция показала, что они любили человечество, но не человека. Русское возрождение привило ей вкус к духовному, хотя, являясь революционером, она никогда не была материалистом, но это было духовное малокровие, не имевшее связи с жизнью, лишенное социально-творческой силы. Мать Мария не проповедовала, а любила. Она всегда помнила, что по-настоящему драгоценно только то, что воздает подобающую честь образу Божию в человеке. <…> Ее судьба является пророчеством о тайне Церкви и еврейского народа. В том, что христиане принимают добровольные страдания и смерть за евреев или вместе с ними, она видела приближение того эсхатологического момента, когда Ветхий Израиль откроет наконец подлинный лик Иисуса Христа и признает в Нем своего Мессию, распятого на кресте. Ее размышления об аскезе встречи и “второй евангельской заповеди” стали важнейшим вкладом в христианскую мысль нашего времени».
«Неизбежность заставила меня подняться на высоты. Неизбежность заставила меня оплакивать умершую мою душу человеческую» («Руфь»).
1916 год стал поворотным не только в творчестве, но и в личной жизни Е. Ю. Усталость и депрессия последних лет дают о себе знать. По отдельным фразам из писем к Блоку можно заключить, что она как бы находит интерес в занятиях «приземленных» и пишет ему не только о своей любви, но и сообщает о некоторых деталях этой «земной» жизни: «И виноделие мое сейчас, где я занята с 6 утра до 1 часу ночи, все нарочно» (27 августа); «И жизнь впустую идет; и эти жизненные ценности, – побрякушки какие-то» (14 октября); «… идут какие-то нелепые дела: закладываю имение, покупаю мельницу и кручусь, кручусь без конца. Всего нелепее, что вся эта чепуха называется словом “жить”» (22 ноября).