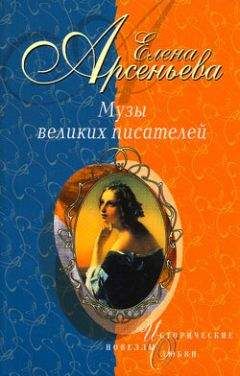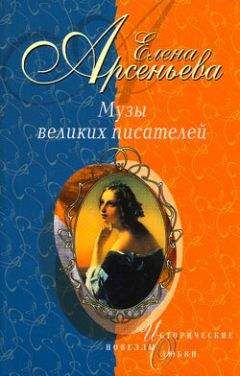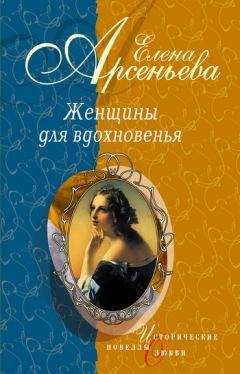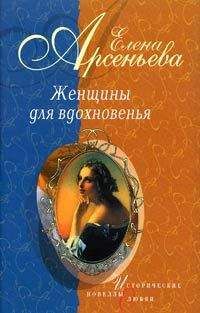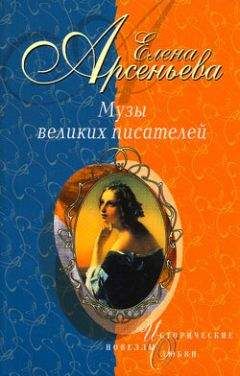Адольф Демченко - Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)
Глава третья. Университет
10. На пути в столицу. Первый год в Петербурге
По дороге в Петербург два события (две встречи, два пожелания) произвели глубокое впечатление на юношу. Незадолго до отъезда, 13 мая 1846 г., священник церкви при Саратовской Александровской больнице П. Н. Каракозов «первый, – записывал восторженный Чернышевский на листке для памяти, – пожелал мне именно того, желанием чего исполнена вся душа моя: говоря о поездке близкой моей в Петербург, он сказал: „Дай Бог нам с вами свидеться, приезжайте к нам оттуда профессором, великим мужем, а мы уже в то время поседеем”. Как душа моя вдруг тронулась этим! Как приятно видеть человека, который хоть и нечаянно, без намерения, может быть, но все-таки сказал то, что ты сам думаешь, пожелал тебе того, чего ты жаждешь и чего почти никто не желает ни себе, ни тебе, особенно в таких летах, как я, и положении». На десятом дне пути он записал ещё об одной встрече – с дьяконом села Баланды Саратовской губернии М. С. Протасовым, который после обычных напутствий сказал: «Желаю вам, чтобы вы были полезны для просвещения и России», и на замечание Евгении Егоровны, что-де «это уже слишком много, довольно, если и для отца и матери», твёрдо повторил: «Нет, это ещё очень мало; надобно им быть полезным и для всего отечества». «Вот второй человек! – писал Николай Чернышевский, преисполненный высоких чувств. – Мне теперь обязанность: быть им с Петром Никифоровичем вечно благодарным за их пожелание: верно эти люди могут понять, что такое значит стремление к славе и соделанию блага человечеству <…> Я вечно должен их помнить» (I, 562). Мечты о «соделании блага человечеству» сообщали мыслям о собственной славе мощный гуманистический заряд, предохраняющий от мелкого тщеславия, и это ещё раз свидетельствовало о зрелости и продуманности принятого решения посвятить жизнь науке.
Дата выезда из Саратова устанавливается по письму Г. И. Чернышевского к А. Ф. Раеву от 21 мая 1846 г. (оно приведено Раевым в составе его воспоминаний): «Мой Николай 18 сего мая в пять часов после обеда оставил Саратов, чтобы явиться к Вам в Петербург под предводительство и попечительство Ваше. Его сопровождает туда Евгения Егоровна с одною из наших постоялок Устиньей Васильевною Кошкиною. Прошу Вас покорнейше принять их под Ваше попечение. Они поехали через Воронеж и Москву на долгих до самого Петербурга, куда, полагаю, прибудут не позднее, как через месяц, а может быть и ранее. Николай вчера из Мариинской колонии написал к Сашеньке, что, судя по началу езды их, арифметически достигнут цели своей через 5 месяцев, 6 дней и 11 1/2 часов».[339] Таким образом, родители не отважились отпустить сына одного или с кем-либо из попутчиков. Существенным оказалось, вероятно, и желание предоставить Николаю возможность без помех заниматься в дороге. И действительно, он, как это видно из писем, готовился к предстоящим вступительным экзаменам по истории, математике, немецкому языку. «Я думал, – писал он 23 мая, – что дорогою нельзя делать дела, а выходит напротив: очень и очень можно» (XIV, 11).
Письма с дороги, регулярно отсылавшиеся в течение всего месяца, и воспоминания У. В. Кошкиной, записанные Ф. В. Духовниковым, дают возможность представить в подробностях картину всего путешествия.
Для поездки была нанята повозка с двумя лошадьми (в Балашове взяли ещё одну лошадь) – крытая крестьянская телега без рессор. «Даже у меня грудь и тело болели от постоянной тряски и ушибов; что же сказать про маменьку?» – писал Николай отцу из Москвы 15 июня, где сменили повозку на дилижанс. К тому же извозчик только в начале пути казался «очень хорош», а потом начал грубить, «ни в чём не слушается, почти ругает маменьку; поэтому решились бросить его» (XIV, 17).[340] Семисотверстный путь до Москвы по «пресквернейшей дороге» с её постоялыми дворами, в которых «гадость, мерзость, пьянство», да ночевками в курных черных избах (здесь пришлось как-то провести три ночи[341]) проделали за 14 суток – по 50 ежедневных вёрст в среднем. На извозчика вышло 240 рублей, провизией Евгения Егоровна запаслась на месяц. В письмах к отцу Николай старался не говорить о неудобствах дороги, шутливые приписки к брату и сестрам Пыпиным придавали его корреспонденциям жизнерадостный, приподнятый тон, отражающий общее настроение ожидания радостных и многообещающих перемен. «Николай весел как нельзя более, – писала Евгения Егоровна мужу из Воронежа 1 июня; – исповедовался у монаха, который должно быть расспросил его, кто он. И когда он отошел от исповеди, то приметно, что плакал».[342]
В Москве остановились у священника Г. С. Клиентова, саратовца по рождению. Здесь произошло знакомство Николая Чернышевского с его дочерью Александрой Григорьевной, к которой впоследствии, вскоре после окончания университета он будет весьма неравнодушен, хотя и на короткое время. В 1846 г. Александра Клиентова уже была вдовой. Много лет спустя эта встреча с Чернышевским припомнилась ей с подробностями, иногда комическими, свидетельствующими о нежной любви Евгении Егоровны к сыну и о материальных затруднениях путешественников.[343]
15 июня выехали из Москвы и 19-го в среду рано утром прибыли в столицу – на 33-й день пути. Вот что писала Евгения Егоровна 28 июня в Саратов: «Друг мой, благодарение Царю Царей мы в Петербурге – в 5 часов утра 19-го числа июня – ехали из Москвы в дилижансе и рада очень, что, хотя с убытком, но оставили извозчика; выехали в субботу и в среду уже здесь, и невероятно. В нынешнее утро исходили вёрст десять, были в университете, были у Прасковьи Алексеевны Колеровой, но писать много некогда и тороплюсь только уведомить о благополучном окончании пути».[344] Квартиру сняли с помощью А. Ф. Раева.[345]
Характерно для Чернышевского, что в письме к отцу описание Петербурга он начал с восторженного известия о поразившем воображение количестве книжных магазинов на Невском проспекте: «Кажется, в каждом доме по книжному магазину; серьёзно: я не проходил и 3-й доли его, а видел, по крайней мере, 20 или 30 их; да сколько ещё пропустил мимо глаз!» Переполненный впечатлениями, он пишет: «Жить здесь и, особенно учиться, превосходно; только надобно немного осмотреться. Я до смерти рад и не знаю, как и сказать, как Вам благодарен, милый папенька, что я теперь здесь» (XIV, 19). Вскоре он обошёл лучшие книжные магазины Ольхина, Смирдина, Ратькова (публичная библиотека открывалась только после каникул), но его ждало разочарование. Книжная лавка Шмицдорфа «из немецких здесь, кажется, первая, но библиотека для чтения не стоит того, чтобы подписываться: одни повести, романы, путешествия и театральные пьесы; серьёзных книг очень немного в каталоге, который я нарочно просматривал с большим вниманием: ищешь той, другой серьёзной книги европейской славы: нет почти ни одной; нет даже ни Герена, ни Шеллинга, ни Гегеля, ни Нибура, ни Ранке, ни Раумера, нет ничего; о существовании их библиотека и не предчувствует. Только решительно и нашёл я из истории и философии, что несколько сочинений (а не полное собрание их) Гердера и автобиографию Стеффенса, отрывки из которой были в „Москвитянине”» (XIV, 25). Как видим, запросы провинциального семинариста широки и серьезны. И когда он писал с юмором двоюродным сёстрам в Саратов, что «из прелестных вещей (напр., для меня книг, для вас платьев и шляпок и проч.) купить почти ни одной не хватает денег» (XIV, 23), в словах о книгах содержалась не просто шутка: книга была для него абсолютно необходимым условием новой, разумно организованной жизни в столице.
Евгении Егоровне Петербург сначала не понравился. Особенно жаловалась на дороговизну, многолюдие. «Что это у вас в Петербурге, – говорила она Раеву, – все куда-то торопятся и бегут с вытаращенными глазами».[346] Потом она как будто смирилась с новым местожительством её сына, «маменьке Петербург теперь нравится уже» (XIV, 36). Опасения за сына, остающегося в такой дали от дома, не покидали её, но она была готова «пожертвовать всем для Николеньки», и напоминания мужа о Казани, всё же обсуждавшейся ранее, не находили в ней отклика. Вот что писал ей Гаврила Иванович 1–2 июля 1846 г.: «Разве Казань – другой мир, разве в Казани не те же люди, какие в Спбурге и Саратове: ты мало ознакомилась с людьми, живя на печке у маминьки. И в Саратове разве не хлебала ты ухи с желчью. Там хорошо, где мы ещё не бывали. Честность, любовь ко всем (даже и ко врагам), возможные с нашей стороны послужения ближним сделают везде любезным человеком. Ты бы пожертвовала всем для Николеньки; что сделает такое твоё пожертвование, если Господь не благословит твоё самоотвержение? Во всём имей терпение, молитву и на Бога надежду».[347]
Прошение в университет на отделение общей словесности философского факультета Чернышевский подал в пятницу 12 июля, в свой день рождения – на этом дне настояла Евгения Егоровна (XIV, 29). Экзамены были объявлены на 2–14 августа (XIV, 31). Тревожась за судьбу сына, Е. Е. Чернышевская посчитала за необходимое исполнить совет Гаврилы Ивановича из его большого письма к ней от 1–2 июля 1846 года: «Прежде всякого начинания сходи к законоучителю университета; как духовная особа он посоветует тебе, что тебе или Николеньке начинать: ежели он окажется благоприветлив, обо всём, что тебе нужно по определению Николеньки, попроси его наставления».[348] Из писем Чернышевского в Саратов видно, что он неодобрительно отнёсся к идее отца. После визита к профессору богословия университета А. И. Райковскому он написал ему: «К профессорам, кажется, не должно итти <…> Как угодно, невольно заставишь смотреть на себя, как на умственно-нищего, идя рассказывать, как ехали 1500 вёрст мы при недостаточном состоянии и прочее. Как ни думай, а какое тут можно произвести впечатление, кроме худого. Да едва ль и выпросишь снисхождения к своим слабостям этим; ну, положим, хоть и убедишь христа-ради принять себя, да вопрос ещё, нужна ли будет эта милостыня? Ну, а если не нужна? Если дело могло б и без неё обойтись? А ведь как угодно, нужна ли она или нет, а, прося её, конечно, заставляешь думать, что нужна. Как так и пойдёшь на все 4 года с титулом: „Дурак, да 1500 верст ехал: нельзя же!” Так и останешься век дураком из-за тысячи пятисот вёрст. А вероятно, и не нужно ничего этого делать. Не должно – это уже известно» (XIV, 32). Не самоуверенностью вовсе, а гордостью разночинца веет от этих слов, и после отпора со стороны сына Евгения Егоровна на посещение профессоров уже не отваживалась.