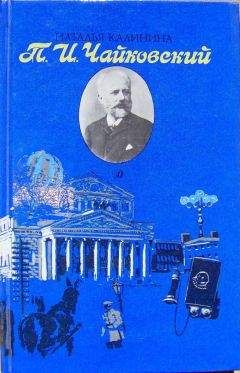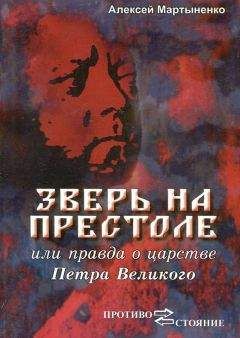Павел Щёголев - Гракх-Бабеф
Делу действительно дали ход, но пока судебные власти заняты были перепиской, подоспело раскрытие «заговора равных». Что вся история с подлогом и на этот раз была лишь средством политического шантажа, лучше всего доказывается тем, что ни во время последнего тюремного заключения Бабёфа, ни во время Вандомского процесса вопрос об уголовном преследовании не поднимался.
На легальном положении Бабёф находился до начала декабря 1795 г. Однажды к нему явился пристав, у которого было поручение отвести к судье некоего гражданина Роша, заведовавшего подпиской «Народного трибуна». Не удостоверившись в личности Бабёфа, пристав схватил его и пытался арестовать. Вырвавшись от полиции, Бабёф обратился в бегство. Полиция бросилась за ним по пятам с криком: «Держи вора!» Трижды его задерживала уличная толпа и трижды его отпускала, узнав от него, кто он такой. Наконец рабочие продовольственного магазина Ассомсьон, очевидно носильщики, отбили его у преследователей, и он под их защитой удалился в безопасное убежище.
Эта уличная сценка была только началом новых гонений. Против № 35 «Народного трибуна» министр юстиции возбудил судебное преследование. Разбирательство окончилось оправданием. На следующий же день Директория отменила приговор. Вынужденный скрываться Бабёф продолжал выпуск своей газеты. В начале февраля министр юстиции поднял новое дело по поводу № 39 «Народного трибуна».
Однако установить местонахождение Бабёфа так и не удалось. Тогда арестовали его жену, обвинив ее в укрывательстве и рассчитывая выпытать у нее местонахождение мужа. Арестованную подвергли заключению в самых тяжелых условиях и после допроса предъявили обвинение в заговоре против правительства.
Члены общества Пантеона немедленно устроили подписку в пользу «заговорщицы» и ее детей. Бабёф, затравленный полицией, принужденный кочевать по квартирам своих друзей, обрел по крайней мере уверенность в том, что его семья не погибнет с голода и не станет жертвой тюремного режима Директории.
Свидания Бабёфа с его близкими становились все более мимолетными. Дети разыскивали убежище отца в кривых, глухих переулках парижских окраин. Они находили его за работой, пишущим, просматривающим рукописи или беседующим с друзьями. Нередко при их появлении беседы обрывались. Начинался краткий разговор с отцом. Он спрашивал детей о матери, утешал их, шутил с ними. Они расставались, не зная зачастую, когда вновь увидятся. Еще раз, и теперь уже окончательно, интересы революции заслонили от Бабёфа всякие заботы о домашнем очаге. И потом, подготавливая эту последнюю революцию, призванную осуществить всеобщее благо, он не работал разве во имя будущего своих детей, как и детей всех бедняков, всех угнетенных?
2Посмотрим теперь, с чем выступил «Народный трибун* в той необычайно трудной и сложной обстановке, какая сложилась во Франции в первые месяцы Директории. Мы знаем уже, что один из основных моментов, обусловивших собой перестройку мировоззрения Бабёфа, заключался в пересмотре старых его воззрений на смысл и историческое значение якобинской диктатуры. Из противника Робеспьера Бабёф превращается теперь в ярого его поклонника. А отсюда вытекает и совершенно новый взгляд, новый подход к 9 термидора.
«Мы осмеливаемся утверждать, — пишет Бабёф в № 34 «Народного трибуна», — что, несмотря на все препятствия, все противодействия, революция до 9 термидора шла вперед и что только после этой даты она обратилась вспять». 9 термидора имела место «катастрофа». Низвержение Робеспьера рисуется Бабёфу деянием введенной в заблуждение, обманутой толпы. Опытный садовник уничтожал в прекрасном саду плевела, срезал сухие ветки, корчевал ядовитые растения, расчищая путь здоровому росту полезных культур. Но толпа посредственных земледельцев, чуждая его искусству, решила, что его действия угрожают саду, угрожают почве. В этой незамысловатой притче Бабёф выражает свое новое отношение к Робеспьеру и его противникам. Пусть аллегория и бледна красками, большой путь проделан автором от «императора Максимилиана» к «опытному садовнику». Теперь он вполне отдает себе отчет в том, что после термидора имела место «плачевная деградация», настоящая реакция, ознаменовавшаяся, между прочим, «отменой закона против ненасытной жадности и варварского злорадства и организацией ужасного голода».
В другом месте, в № 40 «Народного трибуна», поднимая вопрос о Робеспьере и эгалитарных тенденциях его режима, Бабёф проводит довольно любопытную параллель между Робеспьером и Дантоном. Последний, по мнению Бабёфа, хотел республики только для того, чтобы поставить революционеров на место принцев и сеньоров. «Чем мы хуже графа д'Артуа или принца Орлеанского? — говорили между собой приверженцы этого негодяя». Прямо противоположна этому была доктрина «философа из Арраса», и Бабёф цитирует его речь от 17 плювиоза II года республики, в которой Робеспьер упоминал об обязанности отечества обеспечить благосостояние каждого индивидуума. «Урна Робеспьера! — восклицает Бабёф, — дорогие останки! Восстаньте и уничтожьте низких клеветников. Но нет, спите мирно, презрите их; весь французский народ, блага которого вы желали и для которого один ваш гений сделал больше, чем кто-либо, — весь французский народ подымется, чтобы отомстить за вас».
Сам Бабёф чрезвычайно ярко охарактеризовал сущность своего нового отношения к Робеспьеру и к революционному правительству в письме к упоминавшемуся уже Жозефу Бодсону. Сам Бодсон был и оставался еще правоверным эбертистом. Воспоминание о кровавой расправе, учиненной Робеспьером над эбертистами, мешало Бодсону освоить новую политическую линию Бабёфа. Бабёф, как он сам пишет, решил ответить ему со всей возможной откровенностью «Я охотно признаюсь, — писал Бабёф, — в том, что отрицательно относился к революционному правительству и к Робеспьеру с Сен-Жюстом. Теперь я полагаю, что они стоят больше, чем все остальные революционеры, вместе взятые, и что их диктаторское правительство было чертовски хорошо задумано». Бабёф решительно не согласен с Бодсоном, утверждавшим, что робеспьеристы совершили большие преступления и погубили многих республиканцев. «Я не вхожу при этом в рассмотрение вопроса о виновности Эбера и Шометта. Но даже если бы они были невинны, я все же оправдаю Робеспьера. Он имел все основания считать себя единственно способным довести колесницу революции до ее настоящей цели». Вопреки мнению Бодсона, Бабёф считает нужной и обоснованной пропаганду робеспьеризма, он считает полезным подчеркивать связь, существующую между учением «равных» и принципами Робеспьера и Сен-Жюста. «Разве не полезно показать, что мы не изобретаем ничего вновь, что мы только наследуем первым великодушным защитникам народа, которые до нас поставили ту же цель достижения народом справедливости и счастья?» Воскрешать память Робеспьера — это значит пробуждать всех энергичных патриотов. «Робеспьеризм поражает вновь все фракции, он не похож ни на одну из них…» Эбертизм, например, существует только в Париже и притом в небольшой группе людей… Робеспьеризм же распространен по всей республике, во всем народе.