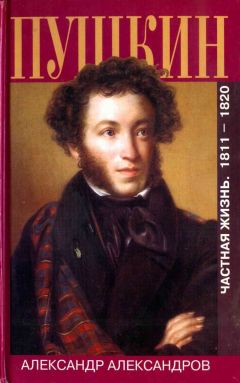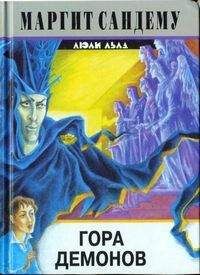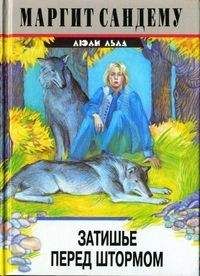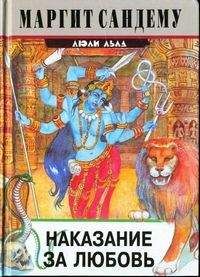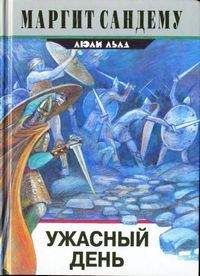Александр Александров - Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820
— А детишки, наверное, у вас толстенькие, в маму?
Девушка сконфузилась и не нашлась, что ответить.
София ждала с напряжением всех нервов, когда он обратится и к ней, ожидая резкости или какой-нибудь совсем неприличной выходки, но, к ее удивлению, он повел себя совсем по-другому. Заметив на ее груди бриллиантовый шифр с голубой кокардой и на голубой ленте, он поднял брови:
— Что это у вас за орден, мадемуазель?
— Шифр их величеств, русских императриц, — отвечала София Тизенгаузен.
— Так вы русская придворная дама? Очень интересно познакомиться. Я думал, русский двор в Петербурге?
Стоявшие рядом вздрогнули, но София отвечала все так же ровно и спокойно:
— Вы правы, ваше величество, русский двор в Петербурге, а я не имею чести быть русской. Я только удостоена чести носить этот придворный знак. И горжусь этим.
— Насколько мне известно, не одна мадемуазель Тизенгаузен была удостоена этой чести? — осмотрелся он, вглядываясь в стоящих цепочкой дам, которые боялись смотреть ему в глаза. — Как видно, достойна оказалась только она. Мне вообще всегда казалось, что в Польше по-настоящему умны только дамы… Кажется, и император Александр тоже предпочитал дам?
— Да, — набралась смелости вступить с ним в диалог София, — только он всегда был с ними любезен.
— О! Мой брат Александр известный прельститель, опасайтесь его, графиня! — расхохотался Наполеон и, неожиданно прервав представление, быстрым шагом направился из зала.
За ним, едва поспевая, бросилась расслабившаяся свита.
А София с грустью подумала, что хама иногда бывает достаточно просто одернуть, а грусть ее была оттого, что она ожидала увидеть гения, а увидела маленького, невоспитанного человечка, которого все называли императором и которому это очень нравилось.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ,
— Армия отступает! Барклай де Толли — предатель! — кричал Олосенька Илличевский. — Нет, вы мне скажите, сколько можно отступать?
К нему приблизился белый как мел Кюхельбекер на негнущихся длинных ногах.
— Господин Илличевский, — сказал он дрожащим от волнения голосом. — Извольте взять свои слова обратно. Это ложь! Наглая ложь!
— Барклай де Толли — предатель, — искренне удивился неведению Кюхли Олосенька. — Это знает вся Россия. А ты защищаешь его, потому что он твой родственник по матушке, сам не раз говорил…
— Во мне говорит высшая справедливость, а вовсе не те мелкие чувства, в которых ты меня подозреваешь…
— Кюхля, никто тебя ни в чем… — начал было как можно ласковей Илличевский, как вдруг Кюхельбекер, весь напрягшись, задрожал так, что жилы надулись у него на шее и на лбу, и закричал, размахивая руками и топая ногами:
— Стреляться! На трех шагах! В лоб!
— Сейчас дам тебе в лоб, и будет и тебе, и твоему Барклаю де Толли высшая справедливость! Успокойся, родственничек! Знаем, какая вы родня: твоя бабушка его дедушку из Царского Села за хуй вела!
— Бабушка? За хуй? — вскричал Кюхельбекер, и оттого, что он, может, впервые в жизни заговорил по-матерному, Малиновский нагло и весело расхохотался.
Он могучими лапами сграбастал Кюхлю и повернул к себе. Кюхля стал рваться, брызгать слюной от бешенства.
— Держать! Держать, Казак! — приговаривал Малиновский сам себе, и мало-помалу Кюхельбекер успокоился.
Дело происходило в газетной комнате, где воспитанники, по обыкновению, обсуждали последние новости. На стене висела большая карта земного шара с двумя полушариями, кругом на столах лежали иностранные и русские газеты и журналы.
— Во главе русских войск должен встать сам государь! — объяснял Горчаков среди других воспитанников, которые только посмотрели на назревавшую драку, но не встали и не подошли, отнеслись к ней как к делу обыденному. Все давно привыкли к штукам Кюхельбекера. — Для меня это несомненно. Отъезд из армии — это его ошибка.
— Только Суворов мог победить Наполеона, да еще Кутузов, — возразил Вольховский. — А его поставили во главе петербургского ополчения…
— Государь не любит Кутузова, — напомнил Вольховскому Горчаков.
— Да. Но его любит вся Россия! — в свою очередь напомнил Вольховский. — И с этим государь должен считаться.
Вдруг вскочил Пущин, читавший «Северную почту».
— Послушайте! Генерал-лейтенант Раевский для одушевления воинов вывел впереди колонны своих сыновей. Младшему всего одиннадцать лет! Это в бою у Салтановки!
— А где эта Салтановка? — Все бросились к карте с красными флажками, отмечавшими линию военных действий.
Кто-то подхватил брошенную Пущиным газету и добавил, глядя в нее:
— Это старое сообщение! Видите, газета от 31 июля, а сражение было одиннадцатого… Французы уже где-то под Смоленском…
Вдруг все замерли — в газетную комнату вошел косоглазый Броглио с огромным орденом на груди. Как ни в чем не бывало он, мурлыкая, расположился в кресле у стола и развернул газету.
Лицеисты приблизились к нему гурьбой. Один глаз Броглио смотрел в газету, другой — на них.
— Это что у тебя? — спросил Данзас, кивком указав на орден.
— Не видишь, что ли? Орден! Мне прислали орден.
— Чей? — поинтересовался Пущин.
— Как чей? — не сразу понял Броглио. — Мой, разумеется…
— Откуда?
— Это мальтийский орден, — пояснил Броглио. — Все мужчины в нашем древнем роде удостаиваются его… — Он посмотрел на ребят, какое впечатление произвело его сообщение.
— Это вражеский орден! — сказал уверенно Мясоедов, и его узкие глаза наполнились злобой. — А ну-ка сними!
— Я итальянский граф Сильверий Броглио Шевалье де Касальборгоне, и меня наградили орденом, — гордо, но дрожащими губами выговорил Броглио. — И я не позволю всякой…
— Оставьте его, — небрежно бросил Пущин.
— Но он же враг! — не понял Пущина Мясоедов. Он искренне не понимал, как можно оставить врага, которого надо уничтожать, в покое.
— Он не враг, он просто дурак! — поставил точку Пущин и развернулся, чтобы уйти, но тут вдруг страшно закричал Броглио.
Как снаряд, маленький Броглио вылетел из кресла и сбил верзилу Пущина с ног. Бросив его на пол, Броглио оказался сверху и продолжал тузить врага на полу.
— Перестаньте, перестаньте! — пытался растащить и успокоить дерущихся Ломоносов. — Государь Павел Первый был великим магистром мальтийского ордена!