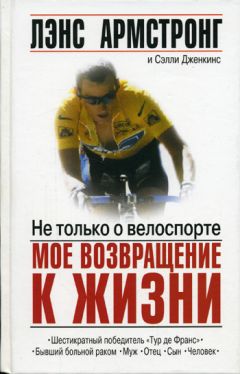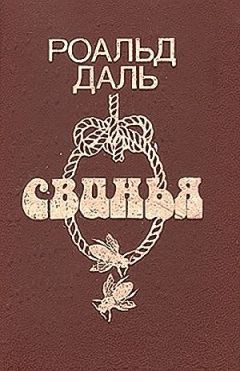Лэнс Армстронг - Не только о велоспорте: мое возвращение к жизни
Наркоз подействовал так, словно выключили свет: только что я был мыслящим существом, а в следующий момент меня попросту не стало. Анестезиолог, чтобы проверить, правильно ли выбрана доза, перед самым началом операции на короткое мгновение привел меня в сознание. Проснувшись, я понял, что операция еще не закончилась; собственно, она еще даже не началась, и я разозлился. В дурмане я произнес: «Черт возьми, начинайте же».
Я услышал голос Шапиро: «Все в порядке», — и снова отключился.
Все, что я знаю об операции, стало мне известно, разумеется, лишь впоследствии, со слов доктора Шапиро. На столе я пролежал около шести часов. Просверлив череп, он извлек пораженную раком ткань и передал ее патологу, который тут же принялся изучать ее под микроскопом.
Исследовав ткань, они надеялись определить тип рака и насколько вероятно его дальнейшее продвижение.
Но патолог, оторвавшись от микроскопа, удивлением в голосе сказал:
— Это некротическая ткань.
— Клетки мертвы? — спросил Шапиро.
— Да.
Разумеется, нельзя было сказать, что мертва каждая клетка. Но выглядели они совершенно безжизненными и совсем не грозными. Это самая лучшая новость, поскольку это означало, что они не размножаются. Что их убило? Я не знаю, не знают и врачи. Некроз тканей случается не так уж редко.
Выйдя из операционной, Шапиро подошел прямо к моей матери и сказал:
— Он в послеоперационной палате и в полном порядке.
Затем он сообщил, что извлеченная ткань оказалась мертвой, а это означало, что больше ее не будет — она извлечена полностью.
— Все прошло гораздо лучше, чем мы ожидали, — сказал Шапиро.
Я проснулся… Медленно… Стало очень светло и… кто-то говорил со мной. Я жив. Я открыл глаза. Надо мной склонился Скотт Шапиро. Когда врач вскрывает тебе череп и выполняет операцию на мозге, а потом собирает тебя заново, наступает момент истины. Каким бы умелым ни был хирург, он всегда с тревогой ждет пробуждения и наблюдает за твоими реакциями и движениями.
— Вы помните меня? — спросил он.
— Вы — мой доктор, — сказал я.
— Как меня зовут?
— Скотт Шапиро.
— А вас как зовут?
— Лэнс Армстронг. И на велосипеде я могу надрать вам задницу хоть сегодня.
Я снова начал засыпать, но, закрыв глаза, увидел того доктора, который проверял мою память.
— Мяч, гвоздь, дорога, — произнес я.
И снова погрузился в бездонный колодец наркотического сна без сновидений.
Снова я проснулся уже в тускло освещенной и тихой палате интенсивной терапии. Какое-то время я лежал, отходя от наркоза. Было ужасно сумрачно и тихо. Мне захотелось покинуть это место. Двигаться.
Я пошевелился.
— Он проснулся, — сказала медсестра.
Я спустил ногу с кровати.
— Лежите! — воскликнула сестра. — Что вы делаете?
— Встаю, — сказал я и начал подниматься.
Двигайся. Если можешь двигаться, значит не болен.
— Вам еще нельзя вставать. Лягте.
Я лег.
— Хочу есть, — заявил я затем.
Более или менее придя в сознание, я обнаружил, что вся голова у меня замотана бинтами. Казалось, что замотаны и мои органы чувств, — наверное, сказывались последствия наркоза и протянутые к носу трубки капельницы. По ноге от пениса тянулся катетер. Я ощущал неимоверную усталость, полное бессилие.
Но голод давал о себе знать. Благодаря матери я привык полноценно питаться три раза в день, поэтому мечтал о наваленной горкой горячей еде — подливкой. Я не ел уже много часов, а последний раз меня кормили кашей. Но каша же не еда. Так, закуска.
Сестра покормила меня омлетом.
— Могу я увидеть свою мать? — спросил я.
Спустя несколько мгновений мама тихо вошла в палату и взяла меня за руку. Я понимал, что она испытывала, как страдала, когда видела меня таким. Я был с ней одна плоть и кровь, вся материя, из которой я состоял, каждая частица меня вплоть до последнего протона в ногте мизинца принадлежали ей, вышли из нее. Когда я был младенцем, она по ночам считала мои вдохи и выдохи. Она думала, что самое трудное осталось в том далеком прошлом.
— Я люблю тебя, — сказал я. — Я люблю свою жизнь, и ее дала мне ты. Я так признателен тебе за это.
Я захотел увидеть и своих друзей. Сестры позволили им входить ко мне не больше чем по двое или трое. Перед операцией я старался всячески показать свою уверенность в успехе, но теперь, когда все было позади, мне уже не нужно было скрывать, какое облегчение я испытывал сейчас и как боялся тогда. Вошел Оч, за ним Крис; они взяли меня за руки, и мне стало так легко от того, что можно было расслабиться и рассказать им, как мне было страшно.
— Я еще не кончился, — сказал я. — Я еще здесь.
Я был как в тумане, но легко узнавал каждого, кто входил ко мне, и понимал их чувства. Голос Кевина дрожал. Он очень переживал за меня, и мне захотелось приободрить его.
— Чего ты такой серьезный? — поддразнил я его.
Он только сжал мне руку.
— Знаю, — сказал я. — Тебе не нравится видеть Большого Брата побитым.
Пока я лежал и слушал шепот друзей, во мне боролись два противоречивых чувства. Сначала меня захлестнула гигантская волна облегчения. Но затем второй волной пришла злость, и эта вторая волна столкнулась с первой. Я был жив, и я злился. И одно чувство не могло существовать без другого. Я был достаточно жив, чтобы злиться. Я зло боролся, зло сопротивлялся, я был зол вообще, зол на бинты на голове, зол на то, что лежу, привязанный к койке трубками. Зол так, что выходил из себя. Зол так, что едва не плакал.
Крис Кармайкл взял меня за руку. Мы знали друг друга уже шесть лет, и не было ничего такого, что мы не могли рассказать друг другу, не было чувств, в которых мы не посмели бы признаться друг другу.
— Как дела? — спросил он.
— Отлично.
— Молодец. Ну а на самом деле, как ты себя чувствуешь?
— Крис, я чувствую себя отлично.
— Это хорошо.
— Крис, ты не понимаешь, — сказал я, и слезы начали катиться из глаз. — Я рад всему этому. Даже знаешь что? Мне нравится все это. Мне нравится, что все шансы были против меня, ведь это всегда было так, я другой жизни и не знаю. Это такое дерьмо, но это всего лишь одна из неприятностей на моем пути. И я ее преодолею. По-другому я и не хочу.
В блоке интенсивной терапии я остался и на ночь. Ко мне пришла сестра и протянула мне трубку, сказав, чтобы я выдохнул в нее. Трубка была присоединена к измерительному прибору с маленьким красным шариком. Эта штуковина предназначалась для измерения емкости моих легких — врачи хотели удостовериться, что наркоз не повредил их.
— Дуйте сюда, — сказала сестра. — И не волнуйтесь, если шарик поднимется не выше чем на одно-два деления.