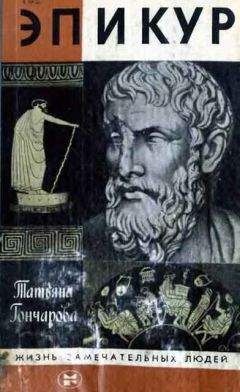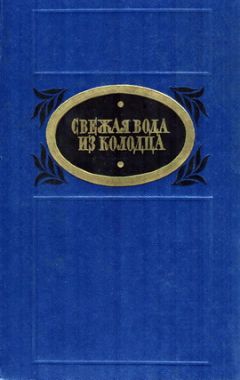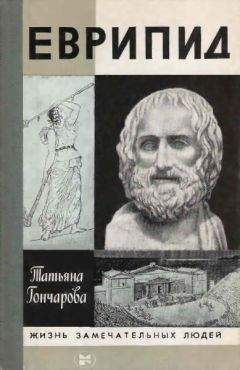Гончарова Татьяна - Эпикур
С варварской беспощадностью стремились к уничтожению друг друга диадохи божественного Александра, каждый день можно было ожидать, что у греков будут отняты и те эфемерные, символические «свободы», которые у них еще оставались, а молодой митиленский учитель со своими друзьями, такими же бедными, не защищенными ни от каких превратностей бытия, самозабвенно обсуждал космогонические принципы Анаксагора и Аристотеля, как будто бы на всем белом свете не было ничего более важного и требующего немедленного разрешения. Да так оно и было. Ибо и сам сын Неокла, и его последователи принадлежали к тому типу людей (типу, столь характерному для эллинского народа), для которых стремление проникнуть в загадки Вселенной делало словно бы несущественными все те превратности истории, среди которых им выпало жить. Ведь и Гераклит, и Ксенофан, и Анаксагор, и Пифагор видели на своем длинном веку и войны, и государственные перевороты, и гражданские междоусобицы, теряли близких, родных, саму родину, и жизнь ни одного из них никто не решился бы назвать ни спокойной, ни полностью благополучной. Как и во все времена, кипела вокруг жестокая, смутная, неуправляемая жизнь, но, как и во все времена, всегда находились люди, способные выйти из ее круговорота, стать на берегу этой вечной реки неизвестно куда стремящегося бытия и посмотреть на все со стороны… И поэтому сына Неокла с друзьями мало интересовали последние новости о действиях Полисперхонта или же Кассандра, о противоборстве Птолемея и Селевка, о ценах на хлеб и земельные участки. Но зато их ум постоянно занимали такие несущественные для большинства окружающих вопросы, как устройство нашей Вселенной, множественность миров в бесконечном пространстве, возможность жизни, подобной нашей, в каком-то ином из этих миров. Они устремлялись вслед за Демокритом через непостижимо бескрайние пространства, заполненные множеством миров: различные по величине, одни — без лун и без солнца (как полагал Абдерит), другие — в сопровождении нескольких лун; одни — еще только зарождающиеся, другие — в процессе разрушения. И им хотелось верить, что существуют где-то миры, подобные нашему, о которых с убежденностью посвященного рассказывал когда-то Анаксагор: в этих далеких, затерянных во Вселенной оазисах жизни все происходит, вероятно, совсем как на земле, и там не только живут разумные существа вроде людей, но они также строят себе жилища, возделывают поля и вывозят продукты на рынок… Ибо, как писал в связи с этим Метродор Хиосский, последователь Демокрита, «единственный колос ржи среди безграничной равнины был бы не более удивительным, чем единственный космос посреди бесконечного пространства…».
Оставались бездонные глубины Вселенной, оставались неисчислимые миры в вечном круговороте материн, но все меньше оставалось в Элладе мудрецов, вся жизнь которых была непрерывное познание и для которых самым главным казался вопрос
…было иль нет когда-то рождение мира.
И предстоит ли конец, и доколь мироздания стены
Неугомонный напор движения выдержать могут.
И даже тем, что, как митиленский учитель Эпикур, еще не утратили вкуса к дерзновенному поиску мысли, приходилось все чаще с тоской и печалью ловить себя на мысли о том, что все это, в сущности, очень мало кому нужно…
Вокруг копошились в своей повседневности с каждым годом все больше мельчающие люди, придавленные нуждой и несвободой, для большинства их основным содержанием жизни стада забота о хлебе насущном, и среди них было бы тщетно искать новых Гармодия, Аристида или же Демосфена. Но, может быть, потому, что Эпикур сам рано познал горе и бедность, сам был почти что никем и ничем (плохо оплачиваемый учитель без родины и постоянного пристанища, разве что свободный), или же потому, что он был наделен тонкой, чувствительной душой, обостренным восприятием чужого страдания, он был бесконечно далек — и особенно в свои молодые годы — от презрения к малым мирам сего, от того равнодушия к их заботам и страданиям, которое было присуще в той или иной степени многим философам-аристократам, и прежде всего Гераклиту и Платону. И если эфесский мудрец видел вокруг себя лишь толпу, насыщающуюся «подобно скоту», то для Эпикура это были неповинные в своих несчастьях бедняки, которым зачастую просто было нечем накормить детей. И если Платон презирал своих современников и видел действительно разумные существа лишь в тех немногих, которых интересовали вещи скорее небесные, чем земные, то у сына Неокла тяжелое зрелище бедствий и нищеты вызывало все большее желание помочь.
За эти годы он перевидел столько разных людей, и греков, и азиатов, что постепенно утратил присущее афинянам чувство превосходства над варварами (даже если эти «варвары», например лидийцы или персы, были причастны к древнейшим культурным традициям востока), потому что теперь они все были равны или почти равны — то ли свободные, то ли рабы, равно не знающие, где раздобыть себе средства на пропитание, равно беспомощные перед неблагоприятными для них поворотами истории. И если Аристотель с высокомерием, о котором теперь было бы лучше позабыть навсегда, видел в рабах лишь говорящие орудия труда, то для Эпикура они были несчастными и обездоленными людьми, бессильными перед насилием и произволом. Раз и навсегда отвергнув разделяемую многими мыслителями Эллады мысль о том, что «господство сильнейших есть установленный богом порядок», что рабство оправдано самой природой, сотворившей людей неравными по способностям, и что, как утверждал все тот же Аристотель, оно отвечает интересам самих же рабов, неспособных управлять собой, Эпикур отказывается от постыдного деления людей на низших и высших, способных и неспособных и противопоставляет этому (один из первых в античном мире) идею человеческого братства.
Ему, предвосхитившему во многом гуманистические идеи последующих времен, было дано разглядеть в растерянных, обнищавших, опустившихся людях, то, чем они были когда-то, чем могли бы стать и чем им никогда не бывать, потому что уж так повернулась история. Он учил в своей школе детей, в жилах которых смешалась кровь многих народов, населяющих древние земли Ионии, и все они были для него одинаковы — эти дети, о будущем которых не хотелось и думать. Он учил их читать и писать, разбираться в поэмах Гомера и Гесиода и сознавал с каждым годом все больше, что учить-то их надо совершенно другому: как уцелеть, как выжить и вместе с тем остаться людьми.
Пути, на которых философы искали улучшения жизни, создания более разумного, справедливого и человечного общества, были давно уже пройдены, и сын Неокла считал бесполезным искать какие-то новые тропы на этих уже позаброшенных, заросших сорняками полях. Он не верил или же разуверился слишком рано (жизнь вокруг давала для этого достаточно оснований) в возможности улучшения окружавшей его реальности. Ему казались искусственно-смешными проекты идеального общества, подобные тем, которыми тешил себя некогда Платон, еще не утративший надежды на лучшую жизнь, если не здесь и не сейчас, то хотя бы где-то и когда-то. Но, подобно Сократу, Эпикур видел единственно возможное спасение и для себя самого, и для людей в том, чтобы опереться на собственные внутренние силы, на силы ума и души, на те вечные истины и ценности, которыми жив род людской, несмотря ни на что, и которые, по-видимому, дороже не только свободы, но и самой жизни.