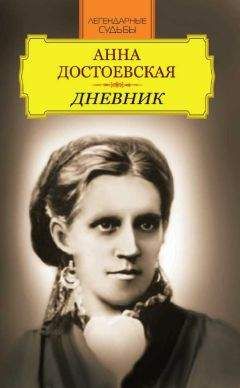Анна Масс - Писательские дачи. Рисунки по памяти
Тетю Пашу мучения животных ничуть не смущают:
— Эх, мошонку-то я ему чуть не отхватила! Ну, ничаво, присохнет! Смажь-ка его каролином, а то черви заведутся!
Наконец, к моей радости, перегорела машинка для стрижки, а там скоро и рабочий день кончился.
Вот уже три дня мы ходим стричь овец. Овчарня так напоминает гестапо с его камерой пыток, что подходя утром к месту нашей работы, мы с Маринкой вытягиваем правую руку и кричим: «Хайль!»
Еще не доходя до сарая, мы слышим душераздирающее блеянье, крики мучителей и мерное жужжание орудий пыток.
Овцу хватают за заднюю ногу и выволакивают из дощатого загона, за которым остальные ее товарищи с ужасом дожидаются своей участи. Овца жалобно кричит, упирается, но дюжие руки швыряют ее на окровавленную лавку, стягивают ноги узлом и прикручивают голову к лавке. Стригущая машинка ревет, и овечье руно, грязное, свалявшееся, совсем не похожее на то, золотое, из мифа об аргонавтах, но все равно доброкачественное, густое, медленно сходит с пытаемой под мат и возгласы пытателей. Так и кажется, что между ними происходит такой диалог:
— А, сука, сопротивляешься! Говори имена членов организации!
— Ме-е-е-е!!!
— Врешь, скажешь! Ну-ка, Иоська, наточи нож поострее, а то совсем затупился… Ну вот, теперь как бритва. Называй, гадина, адреса явок!
— Ме-е-е-е!!! — не сдается юная героиня.
С лавки их снимают за передние и задние ноги. Головы их безжизненно свисают. У загона их раскачивают и бросают к друзьям.
Маринка эти дни работает вместе с симпатичной женщиной тетей Катей. Тетя Катя овец жалеет, режет их сравнительно редко, не в пример моей тупейной художнице тете Паше. Рядом с тетей Катей стоит ведро, хитро прикрытое какой-то тряпкой. Когда попадается шерсть почище и помягче, тетя Катя скатывает ее и кладет в ведро, приговаривая:
— Вот и на варежки будет!
К концу дня у тети Кати в ведре уже и на кофту будет, и на шапочку, и на носочки.
У моей тети Паши сегодня было плохое настроение: ее старшего сына посадили на пятнадцать суток за драку. Обиду свою она срывала на овцах. Ее обуяла какая-то веселая злость. Когда я, страдая, говорила:
— Ой, тетя Паша, вы прямо по ране стрижете! — она бодро отвечала:
— А что ж! Можно по ране, можно и по баране! Ничаво, присохнет! А ну, держи ему голову, а то я сейчас ему рогы отчикаю!
Маринка полезла в загон за очередной овцой, но вдруг остановилась, почесала одной грязной ногой другую и задумчиво обратилась ко мне:
— Знаешь, может, это звучит несколько парадоксально, но овцы почему-то никогда не играли доминирующей роли в моем сознании.
Она пародировала одного нашего знакомого, который любит выражаться витиевато. Искры юмора в ней, значит, еще тлели. Но о романтике она почему-то больше не вспоминала.
10 августа 1958 г.
Дорогие родители!
Скоро начнется уборка. Все бригадиры, завхоз, агроном, десятники, управляющий твердят нам: «Скоро! Скоро!»
А пока мы работаем на току. Мы разгружаем машины с пыреем, просеиваем его через сетку, разбрасываем его для просушки, а потом ныряем в него, закапываемся, и его запах сладко отзывается в наших носоглотках.
Работа эта не сгибает наши плечи усталостью, наоборот, она взбадривает нас, будит, мобилизует и зовет.
Сегодня мы работали только до трех часов, потому что полил дождь, и теперь мы сидим в вагончике, щели которого завешены призывными лозунгами и плакатами. Жаль, что наш пырей, заботливо разбросанный по току, отсыреет. Ведь каждый центнер этого душистого злака стоит шестьсот рублей! Государству-то убыток какой!
Звучит гонг на ужин. Да здравствуют макароны с тушенкой! Даёшь целину! Юным героям-целинникам слава!
Но — осторожно! «Открытые выступающие концы валов трансмиссий могут нанести серьезные ранения!» «Впрягай в работу всё живое тягло!» «Коль будут тетери, то будут и потери!» «Догоним Америку по мясу и молоку!» «Даешь урожай сам-миллиард!»
Эти плакаты не только прикрывают щели нашего вагончика, но и стимулируют наш трудовой энтузиазм.
Бегу ужинать!
Ура!
Мы с Маринкой работаем сигнальщицами
Позавчера бригадир Жужиков вошел к нам в вагончик:
— Нужны два человека для работы на самолетах. Кто хочет?
В тот же момент он скрылся под кучей налетевших на него девчонок:
— Меня!! Дима, меня!
— Я хочу! Меня назначьте!!
Но громче всех кричала Маринка:
— Нас с Анькой! Нас возьмите! Мы овец героически стригли! Мы на скирдовке сена надрывались! Берите нас!!
Напор и решительность победили.
— Ладно, — сказал Дима. — Но предупреждаю: вставать надо в четыре утра.
— Да хоть в три! — гордые своей победой, согласились мы с Маринкой.
Я несколько раз просыпалась — боялась проспать. А когда окончательно проснулась, было уже восемь часов. Машина еще не пришла. Все разошлись на работу. В лагере остались только мы и еще трое мальчишек, тоже назначенных на самолет. Мы играли в подкидного и ждали обеда.
Но когда наступил обед и мы поднесли ко ртам первую ложку супа, раздался крик:
— Кто на самолет? Быстрее, машина пришла!
Не окончив обеда, мы забрались в кузов грузовика, устроились на бумажных мешках с дустом и поехали за сорок километров на Центральную усадьбу.
Там на большом ровном поле грузовик остановился. На поле стояло два маленьких зеленых самолета ЯК-12 и ПО-2. Они прилетели из Петропавловска, чтобы опылять пшеницу.
— Давай попросим летчиков, чтобы они нас покатали, — сказала Маринка.
Мы подошли к тому самолету, что поближе. Из кабины высовывались ноги в стоптанных тапочках.
— Дядя, — решительно обратилась к ногам Маринка. — А вы нас покатаете?
Ноги одна за другой исчезли в кабине. Ответа не последовало.
— Вот хам, — вполголоса констатировала Маринка.
Мы решили подъехать с просьбой к другому летчику, который как раз подвел свой самолетик вплотную к первому. Летчик, молодой казах, был в темных очках, с темным галстуком на шелковой белой рубашке.
— Какой интеллигентный! — восхитилась Маринка. — Уж этот-то покатает!
Летчик вылез из кабины и спрыгнул на землю, оказавшись очень небольшого роста.
Маринка ссутулилась, согнула колени, чтобы оказаться с ним вровень, и начала канючить:
— Вы нас не прокатите? Прокатите нас, пожалуйста, мы еще никогда не летали, ну прокатите, ну я вас очень прошу!