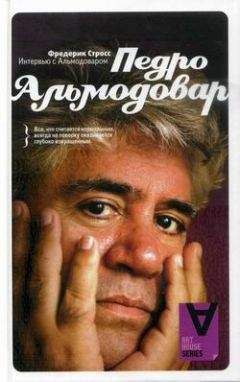Вадим Вацуро - «Северные цветы». История альманаха Дельвига — Пушкина
Вследствие этого распоряжения Пушкин должен был остановить в цензуре все, что им было отдано в печать, в том числе и стихи, посланные Дельвигу[186].
Дельвиг должен был везти их Бенкендорфу, но болезнь удерживала его дома, и только 23 февраля он отправил шефу жандармов пакет — отрывки из «Онегина», «19 октября», послание к Керн и «Цыган» — для отдельного издания. Он извинялся, что не мог доставить их лично и передавал «убедительнейшую просьбу» Пушкина рассмотреть их скорее. Бенкендорф ответил 4 марта, выразив свое крайнее удивление посредничеством Дельвига. К нему обращались в обход всех правил субординации, почти как к частному лицу. Дельвига же он «вовсе не имел чести знать» и сделал новый выговор, уже обоим сочинителям. Самые же стихи он разрешил, — уведомляя при том, что представлял оные государю императору.
«Позвольте мне одно только примечание, — так заключал он свое письмо к Пушкину. — Заглавные буквы друзей в пиесе 19 октября не могут ли подать повода к неблагоприятным для вас собственно заключениям? — это предоставляю вашему рассуждению»[187].
Письмо Бенкендорфа было отправлено не в Москву, а в Псков, и не сразу нашло Пушкина, а тем временем Дельвиг представил стихи в обычную цензуру.
Здесь начинался парадокс. Пушкин, казалось, был освобожден от цензуры министерства народного просвещения, но издатель альманаха должен был следовать установленному порядку. Александра Сергеевича Пушкина цензуровал государь император; автора стихов в альманахе сочинителя Пушкина — цензор альманаха, назначенный Петербургским цензурным комитетом. Привилегией Пушкина было цензуроваться дважды.
Дельвиг передал стихи цензору альманаха П. И. Гаевскому, который затруднился их пропустить. Он указывал, что поэт «употребляет некоторые выражения, которые напоминают об известных обстоятельствах его жизни», как-то
Поэта дом опальный,
О П — мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный…
И далее, в том же духе: «Когда постиг меня судьбины гнев», «опальный затворник», «в глуши, во мраке заточенья»…
Дело было не только в «заглавных буквах друзей», как выражался Бенкендорф.
12 марта Главный цензурный комитет отправил эти стихи на усмотрение министра народного просвещения.
18 марта министр разрешил их: они прошли высочайшую цензуру, и ответственность с него и с цензоров, таким образом, снималась[188].
22 марта Пушкин получил, наконец, письмо Бенкендорфа и уверил шефа жандармов, что немедля напишет Дельвигу об исключении заглавных букв имен — и вообще всего, что может подать повод к «невыгодным»[189] для него заключениям.
Он успел сделать это в самый последний момент: альманах уже переплетался и 25–28 марта вышел в свет. Инициалы друзей были убраны. Самые же стихи Пушкина заключали книжку: их набирали последними. Дельвиг мог бы пожертвовать чем угодно — только не ими.
Глава IV
Пушкинский альманах
К марту 1827 года выяснилось, что журнальные отношения Пушкина вовсе не безоблачны.
Издатели «Московского вестника» были, конечно, людьми порядочными, учеными и способными, — даже талантливыми, но для журнала всего этого было недостаточно. «Московский вестник» был глубокомыслен и сух.
Презирая «коммерческую журналистику», издатели в то же время ревниво следили, как раскупается журнал, потому что состояние редакционной кассы их не могло не волновать. У них начались денежные осложнения — и прежде всего с Пушкиным.
Пушкин не хотел «работать исключительно журналу» и не хотел входить в пай — он рассматривал себя как сотрудника, а не соиздателя.
Отсюда происходили трения и взаимные неудовольствия; на них накладывались трения и неудовольствия среди самих издателей но венцом всего являлось растущее сознание, что для разногласий есть и более глубокие причины. В самых основах своего литературного воспитания, связей и взглядов Пушкин и «любомудры» оказывались различны и кое в чем даже враждебны.
Воспитанные на Шеллинге, на немецких историках и философах-романтиках, они склонны были видеть где-то в глубинах пушкинской личности человека чуждого им восемнадцатого века, с его «классическими», «французскими» предрассудками; в гармонической его поэзии, которой они так безотчетно восхищались поначалу, они усматривали недостаточную «философичность». Слишком легко, слишком изящно, а потому неглубоко. Они предпочли бы более сложный, трудный и дисгармоничный язык метафизической поэзии. Их раздражал вольтерьянский скептицизм Пушкина к религии и философии.
Они избегают споров, но в глубине души уверены, что он говорит «нелепость».
Они, конечно, отдают Пушкину должное, они принимают его — но выборочно. Но ведь Пушкин и читает им выборочно — историко-философского «Бориса Годунова», фольклорные «Песни о Стеньке Разине»…
Пушкин тоже отдает им должное, сознавая при этом, что за определенными пределами взаимное понимание оканчивается. Тогда он начинает цитировать для себя знаменитую басню Хемницера о школяре, начитавшемся метафизических бредней: школяр сидит в яме и отказывается от спасительной веревки, покуда не получил для нее философских дефиниций.
«Моск. <овский> Вестн.<ик> сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая?»[190].
И — что для нас очень важно — издателям «Московского вестника» органически чужд весь пушкинский круг 1820-х годов. Они холодно относятся к поэзии Дельвига и откровенно не приемлют Вяземского и Баратынского.
Все это для них — поэзия прошлого, доживающая свой век.
Если бы Дмитрий Веневитинов провел больше времени в общении с кружком Дельвига, он, может быть, успел бы сблизить с ним своих московских друзей и если не преодолеть, то смягчить разногласия.
Но дни юного поэта уже были сочтены. Случайная простуда, пустяк, которому не придавали значения, уложила его в постель на неделю. 15 марта он скончался на руках Алексея Хомякова. Рассказывали, что в предсмертном бреду он звал Дельвига.
В Москве в беспредельном отчаянии рыдали Погодин, Соболевский, Владимир Титов.
В доме Дельвигов было горе.
Хомяков подарил Анне Петровне Керн посмертный портрет Веневитинова. Анна Петровна сделала для него черный альбом. Дельвиг вписал туда свою эпитафию покойному другу: антологическую надпись, где короткий век юноши сравнивал с мгновенной жизнью розы; подобно благоуханному цветку, он не успел испытать горечи жизненных невзгод. Эти стихи появятся в «Северных цветах»[191].