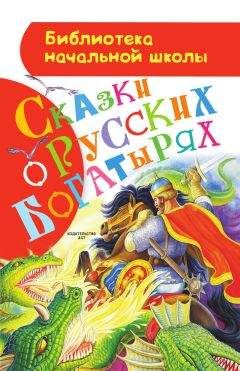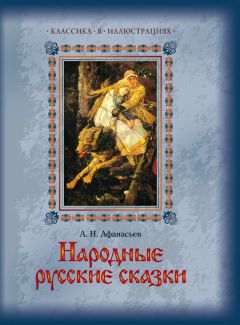Василий Осокин - В. Васнецов
Все молчали, все слушали и думали: к чему клонит Поленов? Лишь в глазах Мамонтова появились и исчезали искорки беспокойного недовольства.
А Поленов говорил:
— Все это прекрасно, господа. Но сегодня повстречался мне старый аксаковский слуга Максимыч. Молчалив старик, и трудно выудить у него слово. Но все-таки постепенно разговорились мы с ним про былые времена, а он помнит их, как вчерашний день. Когда я заметил, что у Сергея Тимофеевича Аксакова, говорят, хорошее житье было крепостным и дворовым — не в пример соседним помещикам, — вздохнул и крякнул Максимыч. С трудом растормошил я старика, и тот сказал: «Сергей Тимофеич, это точно, добрый барин был, а бурмистр у него, Дмитрий Васильевич из Быкова, лютовал, много от него крестьяне натерпелись». Об Ольге Семеновне, жене Аксакова, которую очень почитал Гоголь, как «кристально чистую женщину» и «христианку», Максимыч тоже уж не так хорошо отзывается. Крестьяне, говорит, носили барыне холсты, яйца, кур. А мало принесешь — отдерут на конюшне… Вот где, оказывается, истина. И подумал я, что, уединяясь сюда, в благословенную тишь Абрамцева, мы иногда забываем о правде жизни, о сегодняшних страданиях народных.
— Ну и что же дальше, Василий Дмитриевич? — голос Мамонтова зазвучал глуховато, зло.
Давно уже Мамонтов снял свои руки с плеч товарищей. Остальные тоже шли поодиночке.
— Народ жадно ждет от нас, художников, ответа на вопрос, как дальше жить, — не сразу, в раздумье, сказал Поленов. — И мы обязаны каждый своими средствами так или иначе показать, подсказать ему эти пути.
— Я думаю, господа, — властно заявил Мамонтов, — мы должны переменить разговор. Беседа наша принимает слишком острый характер. Я сам, в известной мере, конечно, разделяю убеждения Василия Дмитриевича, но считаю, что углубление темы нецелесообразно и, если хотите, мне, как хозяину дома, малоприятно. К тому же настает время обеда, и прошу вас домой, за стол. После обеда отдых — каждый может проводить его как угодно, к вашим услугам гамаки, шезлонги, комнаты, лес. Затем актеры репетируют пьесу, а в семь часов — спектакль.
Но слова Поленова заставили многих призадуматься. Потянуло к нему и Васнецова. Захотелось поговорить по душам, еще раз проверить, на ту ли дорогу вышел.
После обеда они долго ходили с Поленовым по залитым солнцем перелескам. Поленова сердечно тронуло, что замкнутый, необщительный Васнецов так доверчив с ним.
Он ответил убежденно: не только он, Васнецов, но и почти все художники абрамцевского кружка стоят на верном пути.
— Даже наш милейший Ильюханция, пропадающий целый день с этюдником в зарослях Абрамцева, пейзажист с ног до головы, «человек не от мира сего», даже он, по моему твердому убеждению, делает нужное, хорошее дело. Я видел его последние работы — это упоительные вещи. Какое тончайшее у него ощущение света, воздуха, пространства!.. Ведь, глядя на его светлые пейзажи, отдыхаешь, наслаждаешься, жить становится легче и радостней… Я уж не говорю об Илье Ефимовиче Репине. Этот потрясает. Картины его — сама жизнь, грозно волнующаяся, как море. Такие картины нужнее всего народу, и желание ему послужить составляет гражданскую доблесть Репина.
Васнецов ждал, когда Поленов заговорит о нем.
— Ты, Виктор Михайлович, верно удивляешься, что я о тебе умалчиваю. Но знаешь ли ты, что о тебе я много думал? Ведь мы до известной степени в равном положении. Я тоже не пишу картин на современные темы.
Но вот смотрел на твоих спящих витязей в картине «После побоища» — и переполняло меня гордое чувство: ведь я тоже русский, это моя сила, моя мощь, мое славное прошлое. А может быть, и настоящее — ведь русский народ еще не проснулся, он спит, как на твоей картине, а поднимется — ну, держись тогда, враг… Я с радостью приветствую твой новый путь, я бы сказал, один из новых путей русского искусства. И дай тебе бог крепости воли и здоровья!
— Спасибо, Василий Дмитриевич, на добром слове. Но объясни, пожалуйста, для чего ты, будучи уверен в правильности избранного нами пути, говоришь о том, что мы, художники, забываем иногда о страданиях народных?
— А потому что за эту забывчивость дорого поплатишься. Ушел от народа — и нет тебя как художника, в какую хочешь ветошку рядись — ан нет! Ну, а Савва Иванович… Талант бесспорный, организатор великолепнейший, многих за собой тянет. А вот демократия у него не в чести. Эгоизма в нем много. Он умен, обаятелен, широкая русская натура — кто станет это отрицать? Но когда хочется чего-то более глубокого, серьезного, тут уж он пас. Я полагаю, что тот дух, который мешает Невреву найти себя — назовем его аполитизмом, — он культивируется Мамонтовым и может сослужить нам плохую службу.
Вот милейший Костя Коровин только и бредит импрессионизмом, пишет «а ля Моне», да и он ли один?.. Бесспорно, что вещи его звучны, изящны. Но, право же, досадно, что Савве они ближе, чем репинский «Крестный ход».
Виктор Михайлович слушал молча, не перебивая. Да, в сущности, и возразить тут было нечего. Интуитивно он чувствовал правоту поленовских слов. Он и сам с беспокойством присматривался к проникновению в русское искусство модернистских течений. Но Мамонтова он любил. Ему он был склонен извинять многое, что не извинил бы другому. И все-таки разговор растревожил, разбудил непрошеный рой мыслей.
Да, отголоски мятежной жизни врывались и в сонную тишь Абрамцева — ив эти уголки, казалось бы, надежно охраняемые старым патриархальным аксаковским домом.
…Та удивительная художественная атмосфера, которая царила в Абрамцеве, сразу покорила впечатлительного Васнецова. Попав сюда, он испытывал чувства, сходные с теми, какие охватили его по приезде в Москву, когда он понял, что попал в такое место, откуда ехать дальше некуда.
Эту атмосферу создавали и гостеприимность Мамонтовых и то оживление, которое вносили приезжавшие и гостившие здесь художники с их спорами об искусстве и жизни, с мольбертами, расставленными там и сям в уголках парка, на поле и в прибрежных кустах. Этой атмосфере способствовали также разговоры об Аксакове, бывшем владельце Абрамцева, об аксаковских гостях. Ведь здесь читал Гоголь первую главу второго тома «Мертвых душ». Ведь здесь славянофилы — Хомяков, братья Киреевские, сыновья хозяина Константин и Иван — спорили о путях развития России, тут бывал Тургенев. А убеленный сединами, почтительный, но грустно-молчаливый аксаковский слуга Максимыч оставался как бы живым памятником «аксаковской эпохи Абрамцева», как образно выразился кто-то из гостей Мамонтова.
Под впечатлением рассказов об этом времени богатое воображение Васнецова рисовало картины недавнего прошлого, оживавшего в его фантазии тем более реально, что события, о которых рассказывали Мамонтовы со слов Максимыча, происходили тут, среди этих построек, среди этих деревьев. Своими тихо шумящими от теплого ветерка кронами они как бы перешептывались о былом.