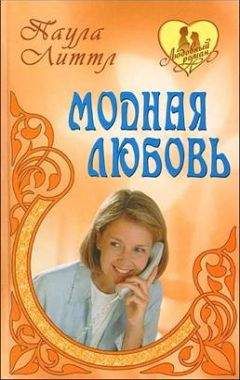Мария фон Бок - Воспоминания о моем отце П.А. Столыпине
Не понимаю, каким это образом, но помню ясно, что в моих руках очутилась бутылочка с валерьяном, и я дала по хорошей дозе и детям и гувернанткам. Приняли и мы с Марусей этих успокаивающих капель. Мы не плакали и очень спокойно распоряжались чем могли, но дрожали обе с головы до ног и внутри все мерзло от какого-то мучительного, непонятного холода.
Ухаживая за ранеными, мы встретили папа и мама, подойдя к которым узнали, что Наташа и Адя найдены живыми на набережной под обломками дачи, но что оба тяжело ранены.
В нашем саду был второй дом, где жили гостящие у нас друзья, гувернантки и часть прислуги. Дом этот от взрыва не пострадал, и туда и перенесли Наташу и Адю и некоторых других раненых. Наташа была ранена очень серьезно, и странно было видеть, когда ее переносили, это безжизненно лежащее тело с совершенно раздробленными ногами и спокойное, будто даже довольное лицо.
Не издавала она ни одного звука: ни крика, ни стона, пока не переложили ее на кровать. Но тогда она закричала, и кричала уже все время, – так ее и в больницу увезли – кричала так жалобно и безнадежно, что мороз по коже проходил от крика этой четырнадцатилетней девочки.
Доктора потом объясняли, что она первое время не чувствовала боли и что при такого рода сильных ранениях всегда так бывает.
У Ади были маленькие раны на голове и перелом ноги, и все последующее время бедный ребенок страдал больше от нервного потрясения, чем от ран. Он несколько дней совершенно не мог спать: только задремлет, как снова вскакивает, с ужасом озирается и кричит: «Падаю, падаю».
Узнав участь Наташи и Ади, я пошла снова к раненым. Один из докторов (уже успевших прибыть из города или из бывших на приеме, не помню) дал Марусе и мне перевязочные средства, и мы продолжали помогать, кому могли. Выходя от Ади, первую, кого мы увидели, была его няня, лежащая в комнате рядом с ним на полу и безостановочно жалобно со стоном повторяющая: «Ноги, ох, ноги»…
Мы ее подняли, переложили на диван, и я, расшнуровав ей ботинок, стала бережно его снимать. Но каков был мой ужас, когда я почувствовала, что нога остается в ботинке, отделяясь от туловища. Положили несчастную девочку (ей было всего семнадцать лет), насколько можно удобнее и вышли в сад. Боже! Какой ад был в этом за час до того мирном саду. Так же благоухали цветы, так же шелестели густой листвой липы и так же изводяще медленно ползали по лужайкам, будто ничего не произошло, две подаренные кем-то Наташе черепахи. А на дорожках, на газоне, повсюду лежали раненые, мертвые тела и части тел: тут нога, тут чей-то палец, там ухо. Лежит, хрипло дышит какой-то мужчина, видно, что страдает невыносимо. Достала я ему воды, но когда наклонилась, чтобы влить ему в полураскрытый рот, заметила, что он, пока я бегала за водой, умер.
Обходя дальше раненых, я нашла далеко в саду убитого мальчика, лет двух-трех; рядом часовой. Я спрашиваю, что это за ребенок, а он мне четко, по-военному отвечает:
– Сын его высокопревосходительства, председателя Совета министров.
Слава Богу, я тогда уже знала, что брат мой жив. Оказалось, что один из просителей, очевидно, чтобы разжалобить папа, принес с собой своего маленького сына. Оба погибли. По всему саду были расставлены часовые, и все место взрыва оцеплено.
Между просителями был доктор, которого я уже раньше встретила в саду. Отыскав его, я привела его к Аде. Но помощи он оказать мне мог очень мало, так как совершенно потерял голову. Слушая крики Наташи и глядя на Адю, он все только хватался за голову и повторял: «Бедные люди, несчастные люди». Я его спросила (до того он ходил к Наташе), грозит ли ей ампутация ног? В ответ на это он только поцеловал мою руку.
Очень скоро подоспели кареты скорой помощи, доктора, санитары и друзья. Передав Адю в надежные руки, я пошла снова к раненым.
К вечеру увезли пострадавших. Наташу и Адю поместили в частную, ближайшую лечебницу доктора Калмейера.
Выбора лечебницы не было, так как состояние Наташи было настолько тяжело, что надо было ее везти в самую близкую больницу, и то доктора удивлялись ее крепкому организму, выдержавшему этот переезд. Моя мать, конечно, поехала со своими ранеными детьми, а мы с папа через некоторое время отправились на катере в дом председателя Совета министров на Фонтанке, в который мы должны были осенью переехать.
Взяли мы с собой любимую кошечку Наташи, серую Гуню, которая с момента взрыва как сумасшедшая носилась по саду, по развалинам между ранеными и убитыми, дико и жалобно мяукая. Только теперь она успокоилась, сидя на моих коленях. Мы ехали почти все время молча, подавленные происшедшим, но, как бывает только в такие минуты; чувствовали себя так близко друг к другу, как никогда.
Глава VIII
К тому времени уже успела выясниться вся картина катастрофы.
Наташа, маленький Адя и его няня, молоденькая воспитанница Красностокского монастыря, находились на верхнем балконе, прямо над подъездом.
Адя с интересом разглядывал подъезжающих и, таким образом, он, единственный из выживших, видал, как подъехало к подъезду ландо с двумя мужчинами в жандармской форме. «Жандармы» эти, очевидно, возбудили подозрение старика швейцара и состоявшего при моем отце генерала Замятина неправильностью формы.
Дело в том, что головной убор жандармских офицеров недели две до этого был изменен, приехавшие же были в старых касках. Кроме того, они держали бережно в руках портфели, что не могло быть у представляющихся министру. Швейцар сделал несколько быстрых шагов вперед, желая пресечь путь подозрительным «офицерам», а генерал Замятин, видавший их из окна приемной, кинулся, чуя недоброе, в переднюю.
Самозванные «жандармы», видя, что на них обратили внимание, и боясь потерять время, кинулись в подъезд и, оттолкнув преградившего им дорогу швейцара, вошли в переднюю, где, натолкнувшись на выбежавшего из приемной генерала Замятина, бросили свои портфели на пол.
Мгновенно раздался оглушительный взрыв… Большая часть дачи взлетела на воздух. Послышались душераздирающие крики раненых, стоны умирающих и пронзительный крик раненых лошадей, привезших преступников. Загорелись деревянные части здания, с грохотом посыпались каменные…
Сами революционеры, Замятин и швейцар были разорваны в клочья. Кроме них погибло более тридцати человек тут же, сразу, не считая умерших в ближайшие дни от ран. Взрыв был такой силы, что на находящейся по другую сторону Невки фабрике не осталось ни одного целого стекла в окнах.
Единственная комната во всем доме, которая совсем не пострадала, был кабинет моего отца.
В момент взрыва папа сидел за письменным столом. Несмотря на две закрытые двери между кабинетом и местом взрыва, громадная бронзовая чернильница поднялась со стола на воздух и перелетела через голову моего отца, залив его чернилами. Ничего другого в кабинете взрыв не повредил, и среди десятков убитых и раненых в комнатах рядом и наверху папа, волею Божьей, остался цел и невредим.