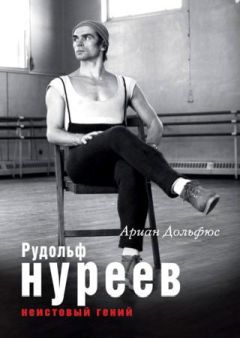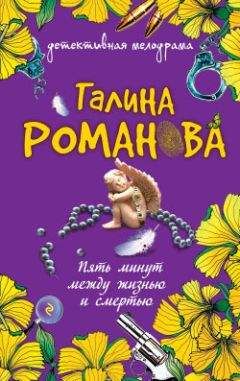Ариан Дольфюс - Рудольф Нуреев. Неистовый гений
В 1975 году Марго единственный раз появилась в балете «Павана Мавра» Хосе Лимона, который Нуреев танцевал в концертном варианте. В том же самом году она смело согласилась выступить в балете «Люцифер» на музыку Пауля Хиндемита. Ей было уже пятьдесят шесть, и это был единственный раз, когда разница в возрасте между ней и Рудольфом выявилась с такой очевидностью.
А вот в балете «Маргарита и Арман», поставленному по роману Александра Дюма‑сына «Дама с камелиями», разница в возрасте подчеркивалась обдуманно.
…Эта история началась весной 1962 года. На слуху у всех была волшебная «Жизель», и Нинетт де Валуа решила создать «что‑нибудь в этом духе, и не менее впечатляющее»{213}. Новую (и пока еще не известно какую) постановку она заказала Фреду Эштону. Эштон сначала подумывал о Манон Леско, а потом обратился к истории Маргариты Готье, Дамы с камелиями, влюбленной в юного Армана. Она — куртизанка, он — добропорядочный буржуа: антагонизм был интересен. Маргарита и Арман полюбили друг друга сумасшедшей, запретной, но вместе с тем и высокоромантической любовью. И добавлю, очень хореографичной {214}{215}.
Эштон, говоривший о себе, что он всегда был «необыкновенно чувствительным и романтичным», собирался делать не длинный, основанный на фактах балет, а «поэтическую элегию» на сонату си‑минор Ференца Листа{216}. Для этого он выбрал очень простую, почти кинематографическую конструкцию: знакомство, деревенская идиллия влюбленных, объяснение на балу и болезнь Маргариты.
Драматизма в балете было более чем достаточно: очень сильное впечатление производила, в частности, сцена, когда Арман в разгар великосветского приема швыряет Маргарите в лицо пачку денег. За сорок минут балета, в котором были заняты еще пятнадцать артистов на второстепенных ролях, Фонтейн и Нуреев исполнили несколько страстных па‑де‑де в волшебном обрамлении декораций, созданных Сесилом Битоном{217}. Битон придумал спроецировать на белом занавесе огромные чернобелые фотографии обоих героев — дополнительное доказательство изысканной звездности исполнителей.
Для того чтобы этот «карманный балет» имел огромный успех, вместе были собраны все необходимые ингредиенты. Англия в это время сходила с ума из‑за «Битлз» и в не меньшей мере — из‑за трагической истории Маргариты и Армана.
Нуреев также находился в возбуждении. «Это был первый балет, поставленный специально для меня, и это был очень, очень важный момент», — вспоминал он позднее{218}.
Когда в декабре 1962 года вдруг стало известно, что проект отложен на неопределенный срок из‑за травмы Рудольфа, английская пресса закусила удила так, «словно речь шла о перераспределении министерских портфелей», — писала «Дэнс энд Дэнсерс». Однако в конце концов состоялось пятнадцать незабываемых репетиций. «Нас было четверо одержимых{219} — рассказывал Нуреев. — Мы импровизировали, веселились, все время забывая, зачем мы здесь собрались. Я злился. Марго была очень подвижна, ей было легко импровизировать. Но мне было необходимо знать, что же мы все‑таки будем делать на сцене»{220}.
Рудольф нервничал и — редчайший случай! — признавал это сам. Когда подошел день премьеры (12 марта 1963 года), он поставил весь «Ковент‑Гарден» на уши. Ему не понравился придуманный Сесилом Битоном жакет в духе Вертера, казавшийся ему слишком длинным, и он изрезал его ножницами. Он со скепсисом смотрел на роскошные негативы, которые Битон велел ему показать.
В день генеральной репетиции в зале толклось не менее пятидесяти фотографов. Даже Марго никогда в своей жизни не видела такого скопления.
Описывая это событие, директор по связям с прессой Королевского балета послал комичное письмо Сесилу Битону, уехавшему в Голливуд:
«Сводка с фронта Нуреева.
Погода: очень грозовая.
Дорогой Сесил!
Какой сегодня день — бешенство, истерические драмы! […] Генеральная началась в 9.30, и с первого же выхода мы поняли, что повеселимся… Он [Нуреев] омерзительно обращался с Марго, грубо толкал ее, порвал свою сорочку (вашу) и бросил ее в оркестровую яму. […] Он выдал такую демонстрацию плохих манер, что все мы дрожали от страха и старались не попадаться ему на глаза ввиду состояния террора, в котором он пребывал».
Заканчивалось письмо так: «Он изобразил подобие улыбки, ему помогли надеть рубашку, и вдруг гроза остановилась… Его стали фотографировать. Марго была бесстрастной, словно ничего не произошло. Он танцевал волшебно… солнце вернулось!»{221}.
Во время репетиций Марго чувствовала примерно то же, что и публика на мартовской премьере. «Почти никто не знал, где кончается правда и начинается вымысел», — лукаво отметила она в своих мемуарах.
Действительно, опасная связь молодого человека и зрелой женщины (на сцене) была своеобразной метафорой реальности. Фонтейн тогда многие упрекали в том, что она опустилась до молодого смутьяна, не уважающего условности классического балета, вообще не уважающего условности. Эштон очень верно подловил момент, соткав свою мелодраму из страсти, гнева, запретов и отчаяния. В своей хореографии он до такой степени изменил обычной британской сдержанности, что «на сцену даже неловко было смотреть; финальное па‑де‑де пропитано натуральной болью», — писал английский критик Дэвид Воган{222}.
«Это было как раз то, чего люди ждали от „листовского“ романа между Фонтейн и Нуреевым», — заметил Клив Барнс{223}.
А вот слова Клемента Криспа: «Балет „Маргарита и Арман“ играл на двусмысленности прочтений любви с первого взгляда и завидно превозносил то, чем становилась пара Марго — Рудольф: зарождение артистической любви на глазах публики»{224}.
Балет Эштона послужил прелюдией ко всем спекуляциям по поводу Рудольфа и Марго. История, которую они проживали на сцене, не могла не продолжаться в настоящей жизни, что длительно подпитывало спекуляции прессы — в особенности британской, — падкой до пикантных деталей, которые могли бы убедить читателя.
Более пятнадцати лет Рудольфа и Марго преследовали папарацци, статьи о них выходили под двусмысленными заголовками («Марго — моя любимая партнерша»), но они и на самом деле не разлучались: их видели вместе на торжественных приемах, в ресторанах и танцевальных клубах.
Как отмечала Виолетта Верди, столь совершенный артистический дуэт «дарил публике возможность подумать, что в каждой благовоспитанной леди прячутся сильные инстинкты, ждущие удовлетворения. И если Марго дала выход этому, значит, в этом что‑то есть. Наблюдая за ними, публика словно смотрела в замочную скважину. И думала, что подмостки театра — это не что иное, как спальня»{225}.