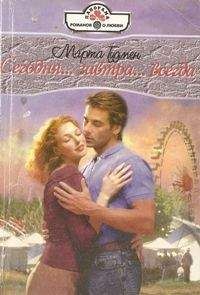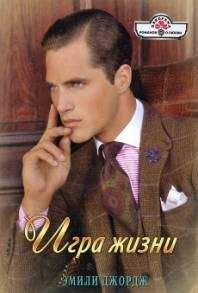Виктор Есипов - Василий Аксенов — одинокий бегун на длинные дистанции
Один из рассказов Аксенова назывался «Жаль, что вас не было с нами». Перефразирую: как жаль, что его уже нет с нами (хотя жалеть, что мы еще не с ним, пока воздержусь). Он любил повторять выражение в переводе с английского: умереть значит присоединиться к большинству. Он уже присоединился, а нам еще предстоит присоединиться к нему. Или как писал Окуджава: «Ненадолго разлука — всего лишь на миг, а потом отправляться и нам по следам по его по горячим»…
Бенедикт Сарнов
И тут Вася сказал…
7 ноября 1961 года мы с женой, вопреки установившейся традиции, оказались в несколько необычной, не совсем своей компании.
«Своей» для нас в то время была прочно сбившаяся компания друзей по «Литгазете», в которой мы — кто штатно, а кто внештатно — тогда работали. И так уж повелось, что на праздники все мы неизменно собирались у кого-нибудь из нас, чьи квартирные условия это позволяли.
Сборища эти были шумными, многолюдными. Звенели бокалы. Произносились длинные витиеватые тосты. Пел Булат первые, самые ранние свои, только что родившиеся песни. И там же появились и первые их магнитофонные записи. (Один из «литгазетцев», Юра Ханютин, уже обзавелся тогда собственным, тяжеловесным, неуклюжим магнитофоном «Днепр». Вот на нем эти булатовские песни и были впервые записаны.)
Неизменными участниками этих сборищ были ближайшие мои друзья — Эмка Мандель, Володя Корнилов, Боря Балтер, Лазарь Лазарев, Стасик Рассадин, Инна Борисова…
А в тот праздничный вечер 1961-го, о котором я сейчас вспомнил, компания, в которой мы с женой оказались, была другая. И не такая многолюдная, и не такая «своя»: Толя Гладилин с женой (именно у него на квартире мы тогда и собрались), Вася Аксенов с Кирой, Стасик Рассадин с Алей и Юра Овсянников (с ним мы и вовсе были тогда едва знакомы).
Затащил нас в эту компанию Стасик, который как раз в это время ушел из «Литгазеты» в «Юность» и сразу сдружился с любимыми авторами этого журнала. А что касается Васи Аксенова, то в него он просто влюбился.
В том, что «литгазетские» наши сборища запомнились мне гораздо лучше, чем это, нет ничего удивительного. И вышло так не только потому, что они были постоянной краской тогдашней моей жизни, а это — коротким и, по правде сказать, довольно-таки случайным эпизодом.
Тут дело было еще в том, что в тех «литгазетских» наших сборищах было гораздо больше острого, яркого, выразительного, а потому и прочно врезавшегося в память.
Взять, например, хоть такой эпизод.
Оказавшийся в нашей компании Михаил Матвеевич Кузнецов («Михмат», как все его звали) вспомнил свою ифлийскую юность и разговор, который зашел однажды меж сокурсниками в их студенческом общежитии. Речь шла о том, как каждый из них представляет себе свое будущее, кем хотел бы стать, чего достичь в жизни. Кто-то сказал, что хотел бы стать поэтом. Кто-то — что мечтает о научной карьере и в будущем видит себя профессором. А один из однокурсников Михмата — Шурик Шелепин — твердо и уверенно объявил:
— А я буду секретарем ЦК.
В то время, когда Михмат рассказывал нам об этом их давнишнем разговоре, Шурик Шелепин («Железный Шурик», как все его тогда называли) был уже членом Политбюро и поговаривали, что вот-вот станет Первым (и даже не Первым, а Генеральным) секретарем ЦК. Что дало мне повод тут же выскочить с тостом:
— Так выпьем же за нашу прекрасную страну, в которой все мечты сбываются!
Не могу забыть еще и такой эпизод из тогдашних наших праздничных посиделок.
В неожиданно вспыхнувшем политическом споре кто-то из нас позволил себе непочтительно выразиться о руководителях французской Компартии — Жаке Дюкло[42] и Марселе Кашене[43]. Услышав это, жена моего друга Лазаря Ная заплакала. Ее отец был старым коминтерновским работником, и в их семье сохранялся не то чтобы культ, но, скажем так, — пиетет по отношению к этим старым вождям мирового коммунистического движения, и стерпеть оскорбительного, глумливого тона по отношению к этим своим кумирам Ная не смогла. И тут к ней подсел, слегка, конечно, уже поддавший, Дезик Самойлов и, погладив ее по голове, сказал:
— Плачь, девочка, плачь! Кто еще поплачет об этих мерзавцах!
Ничего похожего на то, что происходило на «гладилинском» нашем застолье, я вспомнить не могу. Собственно, я вообще ничего не могу о нем вспомнить.
Кроме одной реплики Васи Аксенова.
В какой-то момент, встав из-за стола и подойдя к окну, за которым сеялся с самого утра зарядивший и ни на минуту не прекращавшийся унылый осенний дождь, он с нескрываемым удовольствием и даже не без некоторого злорадства произнес:
— А праздничная демонстрация у большевиков сегодня, надо полагать, провалилась.
Высказать ту же мысль и даже с тем же эмоциональным настроем мог тогда, наверно, каждый из нас. Но придать ей такое стилистическое, словесное оформление («у большевиков») мог только он, Вася.
На одной из знаменитых хрущевских погромных «встреч руководителей партии и правительства с представителями творческой интеллигенции» особенно круто досталось Аксенову и Вознесенскому. О том, как все это было, я во всех подробностях узнал тогда от них самих.
Поэт, как сказала Марина Цветаева, издалека заводит речь. В точном соответствии с этой формулой, Андрюша Вознесенский, когда его позвали на трибуну, начал свое выступление так:
— Я, как и мой великий учитель Владимир Маяковский, не член партии…
Дальше он, естественно, собирался сказать, что, как и его великий учитель, он всей душой, всем сердцем… Ну, и так далее…
Замысел был хорош. Одна только была у него ахиллесова пята: он не учитывал бешеного, взрывного темперамента Никиты Сергеевича Хрущева. Не дав Андрею развернуть замысленный им элегантный ораторский прием, Никита прервал его:
— Ах, не член? Не член партии? Да?.. И ты этим гордишься, да?.. Ну, так вот, на тебе паспорт — и езжай к своим заокеанским хозяевам!..
С Васей Аксеновым вышло примерно так же. Оказавшись на трибуне, он начал с того, что его отец, старый коммунист, был несправедливо репрессирован, отсидел семнадцать лет в сталинских лагерях… Вероятно, дальше он собирался выразить свою благодарность партии и лично Никите Сергеевичу за то, что они разоблачили культ личности Сталина, восстановили ленинские нормы партийной и государственной жизни и вернули ему отца. Но Никита Сергеевич и тут не стал дожидаться окончания этой сложной риторической фигуры. Прервав бедного Васю на полуфразе, он заорал:
— А-а! Так ты, значит, мстишь нам? Да? Мстишь за отца?!