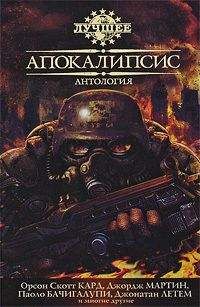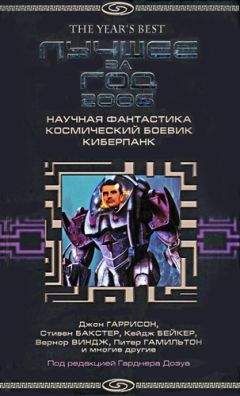Вернон Кресс - Зекамерон XX века
До обеда дремали. На другом конце палаты появилась неизвестно откуда газета, уже довольно старая, но когда Юра ее принес, я узнал об ашхабадском землетрясении. Обедали мы в большой столовой, под клубом. Кормили довольно сносно, второй раз за день раздали рыбий жир. После обеда поспали немного, пока меня не послали на кухню чистить селедку. Я работал в разделочной, не выходя. Другие бегали к поварам, доставали еду, чем-то торговали. Под конец съели каждый по миске овсянки и вернулись в ОП.
Дней через пять нас впервые за зиму выпустили из помещения — повели в баню, находившуюся в здании котельной. Из ОП меня еще водили к зубному. Это была Зося — маленькая, удивительно гибкая женщина с ловкими, кошачьими движениями, остроносая, большеглазая, которая сделала мне укол и стала копаться в моих зубах. Щипцы, крючки, пинцеты появлялись и исчезали в ее руках.
— Когда вы кончите с моим корнем? — спросил я наконец, теряя терпение.
Она засмеялась:
— Я вам только что удалила третий. Встаньте, посидите тут, у вас десна кровоточит!
Она крикнула санитару, который ждал меня в передней, чтобы тот уходил и что она даст потом своего проводника, и быстро вышла из кабинета. Я сидел, смотрел в окно на котельную и чувствовал, что кровь не останавливается. Вдруг меня кто-то крепко поцеловал. Ванда! Все дни в ОП, почти неделю, я ее не встречал. У них были экзамены, приезжала комиссия из Магадана… Она быстро мне об этом рассказала, а я сидел как каменный, во рту было холодно и мертво от укола, я беспрерывно глотал кровь и чувствовал себя гораздо слабее, чем когда голодал в отделении. К тому же я весь обмяк от волнения, думал то о Ванде, то о крови, которая, соленая и густая, наполнила все внутри меня, рот, горло, желудок…
— Ты почему такой несчастный, Петер? — перебила она себя.
— Я даже не могу поцеловать тебя, Ванда, — начал я и остановился, такой противной мне показалась капающая изо рта кровь.
— Не надо огорчаться, я же так рада, что вижу тебя! Какая Зося молодец, что побежала за мной!
Я осторожно обнял ее, чтобы не испачкать ей халат, и погладил по волосам. Вошла Зося и сказала раздраженно:
— Там ждет Хабибулин. Ванда, через мою дверь.
Хабибулин был надзирателем, он иногда ходил по больнице, следил за медперсоналом, хотя не имел на то никаких указаний.
Обычно он вдвоем с другим надзирателем дежурил на больничной вахте. Невысокий, рыжий, синеглазый, с лисьим лицом, он совершенно не вязался с моим представлением о татарах. Его все боялись, потому что он обнаружил, тщательно разведав, несколько связей между заключенными фельдшерами и сестрами. При моем выходе из кабинета он подскочил к дверям, отнимая от щеки руку, и быстро за ними исчез. Убедившись, что он действительно пришел лечиться, я вздохнул с облегчением и вернулся в ОП.
Удаление зубов имело неприятное последствие: пораненные десны несколько дней не переставали кровоточить. Как у большинства колымских зеков, у меня была цинга, хотя и в неопасной стадии благодаря ежедневным порциям стланика. У цинготников любая рана плохо заживала, кровь не свертывалась, тем более в замороженных деснах. Поэтому я почти ничего не ел, и мой вес ни на грамм не прибавлялся. Взвешивали нас регулярно под контролем толстого врача, и тех, кто поправлялся, выписывали на пересылку.
9Ночь. В громадной палате тускло горит одна маленькая лампочка над дверью в раздевалку. Вчера после обеда вызвали Юру, и он больше не вернулся. Здесь, как и в тюрьме, нет места для сантиментов. «Собраться с вещами!» — закрываются двери, и ты можешь еще целый месяц, а то и полгода жить на той половине коридора и, если тебе особенно не повезет, не увидеться с другом, братом, товарищем по несчастью, однодельцем. Ты в тюрьме, как в яме, а рядом, отделенные лишь несколькими метрами стены и запретной зоны, гуляют люди, ходят в магазины, едят, могут держать в карманах все, что хотят, даже ножик, беседуют с женщинами, не опасаясь никаких Хабибулиных, ходят в уборную без разрешения… В лагере, разумеется, немного свободнее, чем в тюрьме, иногда передают вести с новым этапом, но единоличнику получить их непросто. Организациям — а таких немало в лагере, хотя опер только и знает, что выявлять их и искоренять, — гораздо легче держать связь.
Организация — вот чего боялись наши стражники, от простого надзирателя до начальника УСВИТЛа! По принципу «разделяй и властвуй» они создавали искусственные барьеры на путях солидаризации зеков. Уголовники против политических, воры против сук, кавказцы против бандеровцев — все шло на руку тем, кто стоял по ту сторону проволоки. Правда, начальники боялись чрезмерного антагонизма, когда дело доходило до кровопролития, им ведь отвечать за порядок в лагере. Но никто не возражал, если бандиты без лишнего шума избивали, а иногда убивали не очень важного, не закрепленного прямо за Москвой политзаключенного. Симпатии властей всегда были на стороне уголовников, которые считались более благонадежными. Что касается организации — лучшая разведка была у мусульман. Стоило лишь одному «бабаю», даже претупому, попасть в дневальные к оперу, и сразу все туркмены, казахи, татары, иногда дагестанцы и чеченцы знали, чего надо ожидать в ближайшие дни. То же получалось, когда на вахте дневалил латыш — вся «Прибалтика» была информирована. Исключение составляли японцы, их было слишком мало. Они ничем с чужими не делились, жили очень замкнуто.
Не спится мне… Сегодня из-за десен не работал, проспал весь день. Вечером получил записку от Ванды — привезли наконец ее брата! Какая для обоих радость! Он очень худ, сломанная нога плохо срастается… Ответ написать не удалось: Баум забежал на секунду, сунул мне в руку тонкий ролик бумаги. Надо проситься на прогревание, там смотрит не врач, а молодой, недавно освободившийся фельдшер. Только вряд ли удастся сбегать на третий этаж или вызвать ее вниз. Но попытаюсь!.. Рана во рту ноет, наконец отошел укол, действовавший так долго. Мы тут полудохлые, дозы лекарств, рассчитанные на нормальных людей, для нас слишком велики.
Окно густо покрыто льдом, наверно, мороз ужасный: Левый Берег, как Индигирка, известен своими низкими температурами, минус шестьдесят здесь не редкость!
Вдруг очнулся от полусна: в коридоре шаги, шарканье тапочек — новые! Шумят в раздевалке, приглушенный злой голос Маркевича кого-то обрывает: «Заткнись, скурвин сын!» Слышатся возгласы: «Ты что, урка?», «Я тебя сейчас…», «А ну, попробуй!», «Нечего пробовать»… Раздается звонкий удар пощечины, кто-то вскрикнул и умолк. Входят четыре человека, за ними Маркевич, кого-то за собой волоча. Громадный силуэт донора легко различим в полумраке, остальные как привидения: белые в нижнем белье, неопределенные контуры. Тело летит на пустую кровать, остальным поляк шепотом указывает места. Входят два его помощника, тоже доноры, ростом поменьше, но такие же толстые, распределяют других новичков. Одного кладут на место, где лежал Юра. Я внимательно смотрю на своего нового соседа, в неверном свете различаю только, что он долговязый и держится очень прямо. Не успел заговорить с ним, как он улегся и моментально уснул, иногда жалобно постанывая во сне.