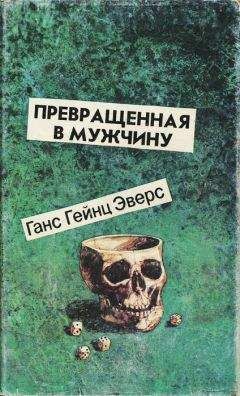Самсон - Самсон. О жизни, о себе, о воле.
О беспределе, который сотворили с Ермаком, узнали не только ближайшие лагеря. Буза ураганом пронеслась по всем зонам бывшего Союза. Зэки ломали станки, жгли бараки. Все это напоминало гражданскую войну. И только пулеметы сторожевых вышек сдерживали многотысячную армию заключенных. Бузу усмиряли силой, в зоны вводили войска, следственные изоляторы были набиты до предела, но это лишь подстегивало бунтовщиков. Зэки пускали в ход заточки и все, что попадалось под руки. Однако лагерная администрация, ломая сопротивление, твердо стояла на своем, намереваясь перевести Ермака в «Белый лебедь», известную пермскую тюрьму.
Каждый вор, едва только входил в ворота этой тюрьмы, как бы мгновенно лишался былого авторитета. Эта тюрьма среди прочих числилась особой – она была создана для таких непокорных, каким был Ермак. Там творила беспредел группа обиженных, которые, пройдя через мытарства лагерей, претерпели унижение и презрение и обозлились на весь преступный мир. Именно к ним подбрасывали воров в законе. Они били законников, требовали отказаться от титула, опускали до своего уровня.
«Белый лебедь»… Во всей России не было арестанта, который не содрогнулся бы от этих двух слов. Все знали про то, что творилось на этой тюрьме. О ней ходило множество историй, одна страшнее другой.
На очереди был Ермак. Связанного, но не сломленного, его внесли во двор тюрьмы. С этого момента вора в законе не стало. Был просто осужденный по такой-то статье.
Ермак отказывался есть – его кормили насильно. Он отказывался работать – его сажали в карцер. Оставалось единственное средство, способное усмирить его гордыню. Это была камера, где сидело пятеро таких же воров в законе, как он сам.
Начальником пермской тюрьмы был Царев Иннокентий Петрович. Подчиненные между собой называли его Царем, заключенные – Иудой. Пройдя путь от прапорщика до полковника, он решил создать своеобразную фабрику по ликвидации воров в законе. И добивался этого всеми возможными и невозможными способами. За это он получал премии и поощрения от вышестоящего начальства, и это еще больше подстегивало его на самые изощренные действия. Воров в законе сажали в одну камеру. Все они были равны и в одинаковой степени признаны воровским сообществом, но каждый из них помнил о том, что ни один из законников не может даже замахнуться на другого, такого же, как он. Однако, оказавшись в замкнутом пространстве, они с трудом выносили друг друга. Раздражение очень быстро перерастало в откровенную ненависть, и частенько кого-нибудь выносили из камеры с раздробленным черепом. Секрет был прост: каждый день требовалось убирать в камере и выносить парашу. Но достаточно было притронуться к ней, чтобы потерять величие законного вора. Слух о бесчестии молнией разносился по всем пересылкам и лагерям. Пребывание воров в одной камере напоминало опыт с крысами, когда в клетке остается одна, самая сильная. А потом сильнейших опять сажают вместе, и снова остается только одна.
Вот в такую тюрьму и попал Ермак. Он прошел перековку по полной программе. Целый год сидел в одиночной камере. Был не раз бит. А когда его поместили в одну камеру с законниками, оставался верен своим воровским принципам. Он видел, как на его глазах один за другим падают идолы, те, на кого он всегда старался равняться. Один хотел покоя, другой желал свежего воздуха, третий помышлял о свободе. Он видел, как плакали опущенные воры, как они выносили парашу. Ермак дал себе слово, что лучше умрет, чем притронется к пропахшему мочой ведру.
Слухи о бесчестии воров распространяла сама администрация, которая была заинтересована в ниспровержении авторитетов, однако наружу не просочилось ни одного слова, которое могло бы опорочить Ермака. Именно после «Белого лебедя» в нем появилась непримиримость, которая сделала его столь авторитетным в уголовном мире. Он сумел сделать то, что до него не удавалось никому. Из «Белого лебедя» он вышел тем, кем и вошел, – вором в законе. Только характер у него стал более жестким. Он не прощал ни малейшего отступления от воровских традиций и принципов. Любое вольное толкование воровской идеи воспринималось им как предательство; многие из прежних воров, сломленных когда-то «Белым лебедем», были объявлены им ссученными, и ничто не могло спасти их от праведного гнева. Бывших законников находили с распоротыми животами в подворотнях, с простреленными головами в притонах.
Вот таким человеком, сын, был мой первый наставник. Вот почему долгое время я был предан воровской идее старой формации. Смотря на таких людей, как Ермак, ты волей-неволей сам стараешься быть похожим на них. Живешь их идеями, их мыслями, их поступками. И только с годами ты осмеливаешься ставить под сомнение их принципы и начинаешь думать самостоятельно…»
* * *
Я отложил в сторону ручку. Время подходило к отбою, и мне надо было приготовиться к встрече с Графом. Он появился за полчаса до полуночи, но перед ним в моем проходе нарисовался Кот из Краснодара, которому я обещал помочь с деньгами.
– Ты просил прийти, Самсон… – Кот нервно топтался передо мной в проходе.
– А ты сам-то что предпринял? Или только на меня надеялся? Я ведь тебе ничего конкретного не обещал.
Глаза проигравшего каталы увеличились вдвое.
– Ну как же, Самсон?.. – Кот был явно растерян.
Время поджимало, и я не стал больше испытывать его, а просто достал деньги и отдал ему. Пересчитав их, Кот затараторил:
– Я все отдам, Самсон! Гадом буду, все отдам; скажи только, какой срок?
– Наш разговор еще не окончен. После за тобой придут, будь готов и не спи.
Должник пристально посмотрел на меня, и его рука с деньгами дернулась в мою сторону, но я успокоил его:
– Не гони, Кот, ничего страшного с тобой не случится, обещаю.
– Я верю тебе, Самсон. – Катала спрятал деньги и пошел к себе.
В такой непростой ситуации любой проигравший мог стать оружием в чужих руках, и Кот понимал это как никто другой. Он находился между молотом и наковальней. С одной стороны, через полчаса ему надо было отдать долг, чтобы не стать фуфлыжником, а с другой – беря у меня деньги на отдачу, он не знал, что я могу потребовать взамен, – деньги-то были немалые. Я запросто мог вложить в его руку нож и отправить, предположим, к Графу или еще к кому-нибудь, даже к поднадоевшему оперу. Этого Кот и боялся. Ведь он не был блатным, а значит, прежде всего, хотел спокойно досидеть свой срок. Но я не собирался делать из него «торпеду». По сути, я и сам еще не знал, каким образом использую Кота; но внутреннее чутье подсказывало мне, что, помогая ему, я поступаю правильно. В сложившейся ситуации он мне еще пригодится.