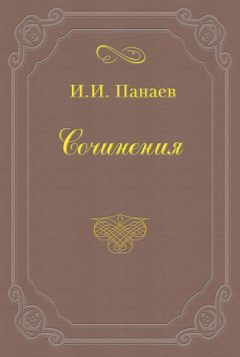Екатерина Мещерская - Жизнь некрасивой женщины
— Сейчас, уже кончаю, — подойдя к двери, ответила я, — прошу тебя, иди в комнаты, минут через десять я приду! И позови мне маму… — Я больше всего боялась, чтобы Васильев не сорвал двери; он не задумываясь сделал бы это, если о у него мелькнуло хоть какое-нибудь подозрение.
Еще немного поспорив у дверей, он отошел. Видимо, у него было благодушное настроение.
Первый испуг прошел. К нам вернулось самообладание. Мама сунула мне в дверь в мохнатой банной простыне платье и ножницы. Никита все на мне разрезал, встал ко мне спиной, и я быстро переоделась. Перед тем как выйти, я намочила водой волосы, завязала полотенцем.
Но была еще одна рискованная минута, когда я выходила из ванной, а Никита за моей спиной прокрадывался на кухню, к тетке в комнату. Все обошлось благополучно. Войдя в комнаты, я стала занимать Нику разговорами, а затем села за рояль. Это всегда было лучшим средством укрощения Васильева. В таких случаях он неизменно доставал две колоды карт и погружался в пасьянс.
Так было и на сей раз, а потому Никита имел полную возможность одеться, расцеловать на прощание маме и тетке ручки и преблагополучно скрыться.
Очень давно, когда мама выходила замуж за моего отца, и этот брак наделал в высшем свете много шума, княгиня Кудашева была одной из тех женщин «общества», которая встретила маму ласково и впоследствии горячо ее полюбила.
Кудашева имела двух сыновей, оба были офицерами гвардии. Но революция отняла у нее обоих. Теперь, неизлечимо больная, она умирала медленной и мучительной смертью. Постепенный склероз по частям убивал ее организм. Сначала она лишилась ног.
Кудашева лежала под Москвой в Царицыне, в маленьком деревянном домике своей бывшей горничной.
Ольга, или Оляша, как все привыкли ее звать, сама была уже женщиной лет шестидесяти, маленькая, худенькая, юркая и испуганная, похожая на мышку. Оляша держала двух коз, владела небольшим участком земли, с которого собирала на зиму картофель и немного овощей. Кроме того, она еще зарабатывала шитьем.
Мы очень любили Кудашеву, и мама от продажи каждой нашей вещи посылала ей немного денег. Если от нас не было долго помощи, то Оляша сама приезжала к нам на Поварскую.
Как ни стыдно в этом сознаться, но я уговорила маму дать мне возможность поехать на маскарад, воспользовавшись именем бедной, больной Кудашевой. Мама долго колебалась, говорила, что такая ложь — грех, но в конце концов согласилась. Она знала, что на маскарад я все равно поеду.
Заранее наши костюмы были перенесены в чемоданах в Староконюшенный переулок, к Пряникам. Туда же мы втроем собирались скрыться от Васильева, и туда же за нами должен был заехать на машине некто Котя Сахновский. Этого лицейского товарища моего брата я совершенно неожиданно для себя встретила в доме Красовских. В Староконюшенный переулок должна была прийти и Аля, чтобы всем вместе ехать на маскарад.
Итак, мама, тетка и я были в заговоре. Наступил день маскарада. С утра ничего не подозревавший Васильев уехал на аэродром. Когда он вернулся, никого не было дома. Только на столе белела оставленная нами записка: «За нами приехала Оляша, все едем в Царицыно. Кудашева умирает. Можем остаться в Царицыне до завтра».
Как часто бывает так, что неожиданность парализует на некоторое время и волю, и сознание. Пораженный Васильев поужинал и затем не нашел ничего лучшего, как залечь спать… а мы в это время веселились, да еще как! У всех, кто в этот вечер входил в квартиру Красовских, срывалось с уст восхищенное «Ах!».
Комнаты были неузнаваемы. Все сундуки бабушек, тетушек Никиты и его матери, в прошлом актрисы Малого театра, были опустошены. Всюду колыхались тяжелые занавеси, свисали с потолка разноцветные шелковые шатры. Во всех комнатах вырезанные и расписанные талантливой рукой Никиты абажуры со вставленной цветной слюдой лили полусвет, и этот полусвет делал встречавшуюся маску то знакомой, то нет и как нельзя больше потворствовал очаровательному обману маскарада…
Ввиду того что большая часть общества состояла из актеров, то съезжались после спектакля к двенадцати.
Ужинать сели после двух, когда сняли маски; до этого же часа пение, танцы, стихи и игры проходили очень весело, при несмолкаемых взрывах хохота.
Как я любила, танцуя, встречать первые, туманные проблески зимнего утра! И этот маскарад остался в моей памяти упоительным, чудным праздником.
Забрав ночевавшую у Пряников маму, мы отправились на Поварскую с тем расчетом, чтобы попасть в те часы, когда Васильев был еще на аэродроме. Когда он вернулся, то застал самую мирную картину: мама готовила обед, а мы с теткой, насмотревшись якобы на умиравшую Кудашеву, завязав головы полотенцем от мнимой головной боли, лежали. Благодаря этой выдумке мы могли хотя бы немного вздремнуть. В голове носились обрывки музыки, тело было в плену сладкой, приятной усталости…
— Ну что же?.. Умерла? — было первым вопросом Васильева.
— Почти что… но… еще нет… — пролепетала мама, которую я безвозвратно увлекла на путь лжи.
— Чего же вы все трое всполошились, бросили дом и удрали? — допытывал нас Васильев.
— Ника, — торжественно произнесла я, — понимаешь ли ты, что значит, когда человек умирает?
Мама посмотрела на меня укоризненно, а я фыркнула, уткнувшись лицом в подушку.
Нашим выдумкам не было конца. Но увы!.. Пришло лето, и я с ужасом замечала, какой уродливой становилась моя фигура. Тогда я стала ездить с Васильевым на аэродром и увлеклась полетами.
С утра я высовывалась в окно и определяла, ветрено ли, будет ли «болтать» в воздухе… и, убедившись в том, что погода стоит летная, мчалась с мужем на аэродром.
Мама крестилась и была от этого в ужасе, зато Васильев говорил с восторгом: «Пусть мой сын еще до рождения привыкает к полетам. Я сделаю из него лучшего русского летчика!..»
Васильев, как и многие летчики, страдал суеверием, и поэтому я, к сожалению, будучи его женой, никогда с ним не летала.
По-прежнему я летала только в открытых, военных самолетах, считая для себя позорными полеты в гражданских, пассажирских.
Каждый полет давал мне новое наслаждение, новые ощущения и даже новые мысли.
Последнее время я стала бояться за Васильева. Он все чаще выбивался из летной дисциплины, бравировал в воздухе, делал рискованные посадки, а главное — часто садился за управление самолетом с еще не совсем свежей после похмелья головой.
Почему с тревогой за него стало биться мое сердце?.. Разве я его любила?.. Нет… Но там, далеко, в последнем ящике комода, спрятанная от взоров, росла горка смешных распашонок, крошечных чепчиков и пеленок.