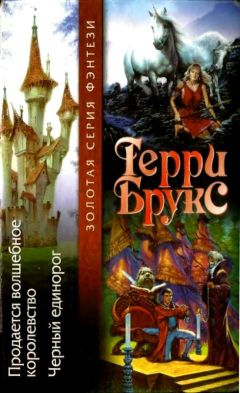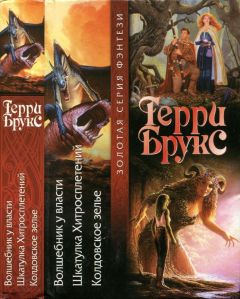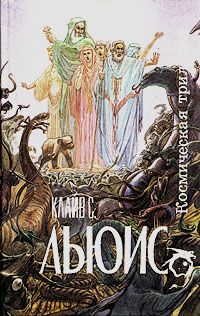Александр Хинштейн - Ельцин. Кремль. История болезни
Тут уж Егору Кузьмичу ничего не остается, кроме как предоставить слово заклятому своему врагу.
(Помните брошенное им Ельцину – насчет того, кто кого может огреть? Вот уж отлились кошке мышкины слезки.)
Борис Николаевич выходит на трибуну. Зал замер.
О чем же говорит Ельцин?
О том, что у общества «стала вера какая-то падать» к перестройке. Что с начала ее люди «реально ничего… не получили».
ЦК зарылся в бумагах, бюрократия множится, люди не верят бесчисленным постановлениям и решениям. Исчезает коллегиальность руководства, создается культ личности Горбачева. Не делается выводов из уроков истории.
Закончил он с надрывом:
«…Видимо, у меня не получается работать в составе Политбюро. По разным причинам. Видимо, и опыт, и другие, может быть, и отсутствие некоторой поддержки со стороны, особенно товарища Лигачева, я бы подчеркнул, привели меня к мысли, что я перед вами должен поставить вопрос об освобождении меня от должности, обязанностей кандидата в члены Политбюро. Соответствующее заявление я передал, а как будет в отношении первого секретаря городского комитета партии, это будет решать уже, видимо, пленум городского комитета партии».
МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОЗ
Критическая оценка чужих взглядов и деятельности приводит страдающих психопатией к конфликтам с окружающими, которых они постоянно подозревают в недоброжелательном к себе отношении. Они постоянно выясняют отношения и вступают в тяжелые конфликты с окружающими. Мышлению этого рода людей свойственна еще одна особенность – резонерство, пустое рассуждательство по ничтожному поводу.
Сказать, что в зале возник шок – не сказать ничего. Ельцин нарушил все мыслимые и немыслимые правила игры. Ничего подобного ЦК не помнил со времен троцкистской оппозиции.
«Все как-то опешили, – вспоминает член Политбюро Воротников. – Что? Почему? Непонятно… Причем такой ход в канун великого праздника!»
И здесь сразу же возникает череда вопросов.
Первое. Было ли это выступление экспромтом?
Нет, конечно. Ельцин явно готовился к докладу, об этом косвенно свидетельствуют и его воспоминания.
Например, такие:
«Когда я принимаю какое-то серьезное решение, потом никогда не извожу себя дурацкими мыслями, что надо было сделать как-то иначе, можно, наверное, было по-другому… Я не убивал когда-то себя мыслями, почему я, например, тогда выступил на октябрьском (1987 года) пленуме ЦК… Принимая решение, я бросаюсь как в воду». (Из книги «Записки президента».)
Следующий, еще более важный вопрос: знал ли Горбачев о ельцинских планах?
Если не знал, то зачем предоставил ему слово, ведь без горбачевских окриков Лигачев спокойно проигнорировал бы Ельцина, да и дело с концом.
Вообще, эта странная перепалка, возникшая в президиуме, этакая возня в дверях , и по сей день вызывает массу недомолвок.
Лигачев, без сомнения, видел поднятую Ельциным руку. (Это признает и Горбачев.) Однако демонстративно не замечал ее. Почему? Потому что знал, чем закончится дело, то есть был осведомлен заранее, или же по причине всеобъемлющей антипатии к бывшей своей креатуре?
И что имел в виду Горбачев, обмолвившись о том, что «у товарища Ельцина есть какое-то заявление ». Заявление! Хотя предлагалось исключительно записаться на вопросы, а о заявлениях и выступлениях – речи не шло.
Это что? Обычная оговорка? Или же нечто большее? Свидетельство посвященности в ельцинские планы?
В одном издании мне довелось прочитать весьма занятную версию. Дескать, Михаил Сергеевич специально выставил Бориса Николаевича на ринг, дабы стравить его с Лигачевым и вообще реализовать нехитрую формулу плохой–хороший следователь. (Горбачев, ясно, хороший, Ельцин – плохой.)
Лигачев косвенно означенную версию подтверждает. «Горбачеву было нужно, – уверен Егор Кузьмич, – чтобы с одной стороны был Лигачев, а с другой – Ельцин и Яковлев. Словом, разделяй и властвуй».
Честно скажу, вариант этот меня не впечатляет. Есть в нем что-то из заумной философичной гипотезы, что зло – это порождение добра, ибо добру нужно постоянно бороться со злом и доказывать свое превосходство.
Чересчур сложно это, господа!
При всей своей хитромудрости, Горбачев явно не производил впечатление мазохиста. Любой публичный демарш с выпадами в адрес перестройки бил в первую очередь по нему самому. Да и не имелось у них с Ельциным настолько доверительных, близких отношений, чтобы можно было доверить ему столь щепетильную комбинацию.
Если принять вышеназванный вариант за основу, получается, что Борис Николаевич как бы под легендой внедрялся во враждебное окружение, надевал на себя маску оппозиционера, а потом, в решающий момент, должен был бы вытащить из кармана партбилет и взмахнуть им, точно Хома Брут крестом пред очами летающей панночки.
Что же до стравливания, науськивания соратников друг на друга, какая проблема была устроить этот петушиный бой в более узком составе, на том же Политбюро?
И последнее: что двигало Ельциным? Желание посильнее хлопнуть дверью? Правдоискательский зуд? Нетерпение?
«В нем говорило уязвленное самолюбие», – уверен Горбачев. Через десять лет в своих мемуарах «Жизнь и реформы» он даст собственную трактовку тех событий:
«Правы были те, кто указал на пленуме на его гипертрофированную амбициозность, страсть к власти. Время лишь подтвердило такую оценку».
Но это лишь одна причина. По версии Горбачева, имелась и вторая, не менее важная. Якобы Ельцин не справлялся с Москвой.
Все его обещания и прожекты висли в воздухе, ибо «как реформатор Ельцин не состоялся уже тогда. Повседневная, рутинная, деловая работа и особенно трудные поиски согласия были не для него… Ощущение бессилия, нарастающей неудовлетворенности от того, что мало удалось добиться в Москве, вывело из равновесия, привело к срыву».
Ну, насчет московских успехов – мы уже говорили. Вряд ли Ельцина угнетало «ощущение бессилия»: здесь он мог дать сто очков вперед любому секретарю обкома. Если что-то и терзало его, так это исключительно конфронтация с Политбюро и предстоящая порка: комиссия-то, созданная по инициативе Лигачева, явно не собиралась ограничиться одной только проблемой демонстраций и митингов. Проверять собирались всю его работу в Москве, причем с результатом, понятным заранее: был бы человек, а статья найдется.
Мне думается, причина крылась именно в этом. Когда Ельцин понял, а точнее, сам себя убедил, что Горбачев не желает тихой его отставки, он решился пойти ва-банк. Нападение – лучший способ защиты.
В конце концов, он ничего не терял. Сняли бы его так и так. Но одно дело – уйти с позором, под улюлюканье недругов и завистников. И совсем другое – с гордо поднятой головой, этаким страдальцем за идею, народным героем.