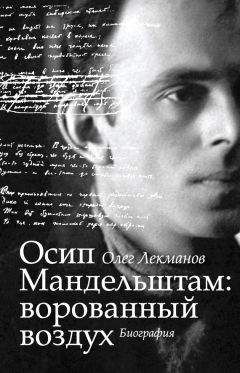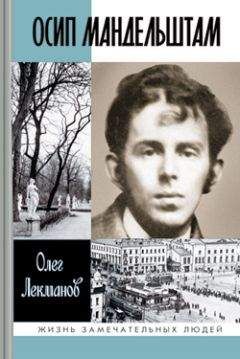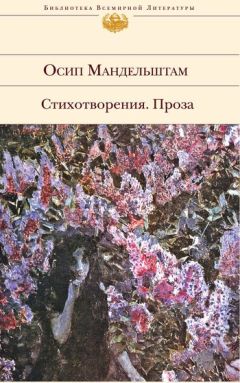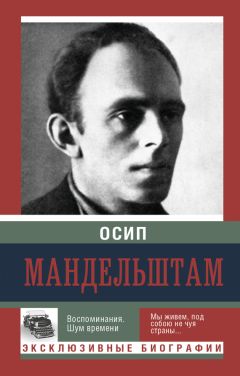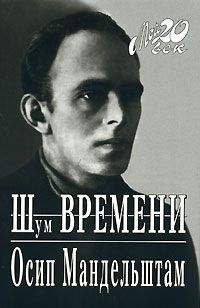Осип Мандельштам: ворованный воздух. Биография - Лекманов Олег Андершанович
Нужно сказать, что сам Мандельштам воспринял появление «Tristia» не только без восторга, но и почти с гневом. «В последний раз предлагаю доплатить мне обещанный Я.Н. Блохом номинал за “Tristia”, купленные у меня за гроши в 1920 году», – негодующе обращался поэт в издательство «Petropolis» (IV: 33). Даря книгу одному из своих приятелей, Мандельштам надписал ее следующим образом: «Дорогому Давиду Исааковичу Выгодскому – с просьбой помнить, что эта книга вышла против моей воли и без моего ведома» [386]. Сохранился экземпляр «Tristia» с еще более резкой мандельштамовской пометой: «Книжка составлена без меня против моей воли безграмотными людьми из кучи понадерганных листков» [387].
Авторский вариант собрания новых стихотворений Мандельштама поступил в московское издательство «Круг» 25 ноября 1922 года. Он был озаглавлен «Вторая книга» и снабжен посвящением «Н. Х.» – Надежде Хазиной. На прилавках магазинов «Вторая книга» появилась в конце мая 1923 года, за два месяца до третьего и последнего, дополненного, отдельного издания «Камня». Судя по всему, у поэта, как и в случае с «Tristia», не было возможности принять активное участие в издательской судьбе этой книги. Сохранился экземпляр «Камня» (1923), на первой странице которого рукою Мандельштама написано: «А даты стихов где? Или хотя бы книги» [388].
Впоследствии, перепечатывая свою «Вторую книгу» в составе итогового сборника «Стихотворения» (1928), Мандельштам вернулся к заглавию «Tristia»: вероятно, потому, что именно это заглавие прочно закрепилось за книгой в читательском сознании.
«Сборник прекраснейших стихов, певучих, упругих, образных, – оценивал “Вторую книгу” анонимный рецензент. – Подлинная поэзия, глубокая, содержательная. Но – поэзия для немногих. Стихи Мандельштама – лирические признания капризной и глубоко-одинокой индивидуальности, лирика человека, бродящего по миру с одной заботой: “времени бремя избыть”. Глаза падают на здания, на вывески, на случайные крупные вещи, мысль переносится в эллинскую древность, в умирающую Венецию Наполеоновых дней, в фантастику образов Эдгара По, – и случайно пишутся вдохновенные стихи» [389].
На «Вторую книгу» отозвался рецензией и давний мандельштамовский недоброжелатель Валерий Брюсов. В том обозрении современной советской поэзии, которому было суждено стать последним развернутым брюсовским выступлением в печати, он сформулировал два основных упрека в адрес Мандельштама. Первый к этому времени стал уже почти штампом: Мандельштам – «искусный мастер», но ему «нечего сказать». Второму упреку предстояло стать штампом в самые ближайшие годы: стихи поэта «несвоевременны» – «когда прочтешь “вторую книгу” О. Мандельштама, она же его “Печали” <“Tristia”>, возникает вопрос: в каком веке книга написана? Иногда словно проблескивает современность, говорится о “нашем веке”, намекается на европейскую войну, упоминаются “броненосцы” и даже “брюки” – атрибут современности, ибо ни древние эллины, ни древние римляне оных не носили. Но эти проблески меркнут за тучей всяких Гераклов, Трезен, Персефон, Пиерид, летейских стуж, и тому под., и тому под.» [390].
Не слишком остроумно издевавшийся над соседством в мандельштамовской книге «брюк» и «Персефон» опытный рецензент тем не менее чутко уловил стремление Мандельштама соединить в своих стихах жгучую современность с классической древностью. Вольно или невольно, Брюсов сумел нащупать едва ли не главную тему поэзии и прозы Мандельштама периода «Tristia»: гамлетовскую тему прервавшейся связи «времен и поколений». Связи, которую необходимо восстановить, хотя бы и ценой собственной жизни:
Вопрос о возможности или невозможности войти в новую эпоху с грузом прежней культуры по понятным причинам в начале двадцатых годов волновал далеко не одного Мандельштама. Специфика мандельштамовского подхода заключалась в стремлении разрешить проблему связи времен и поколений прежде всего путем провозглашения исторической преемственности между новейшей русской поэзией и старой, в том числе античной культурной традицией. Центральная задача целого ряда его статей этого периода – разворачивание перед читателем сложной иерархии литературных отношений, развивавшихся от рубежа веков к современности. «Произошло то, что можно назвать сращением позвоночника двух поэтических систем, двух поэтических эпох» (II: 288) – так оптимистически Мандельштам варьировал тему и образы стихотворения «Век» в 1923 году. «Современная русская поэзия не свалилась с неба, а была предсказана всем поэтическим прошлым нашей страны», – терпеливо напоминал он в своих «Заметках о поэзии» (1923) (II: 298).
Эта же тема затрагивается в загадочной мандельштамовской «Грифельной оде» (1923), импульсом к созданию которой послужило стихотворение Державина «Река времен в своем стремленьи…», нацарапанное «на грифельной доске» «на пороге девятнадцатого столетия» (из статьи Мандельштама «Девятнадцатый век» 1922 года) (II: 265). Поэт как бы отозвался на собственный вызов годичной давности: «Теперь никто не напишет державинской оды» (из статьи Мандельштама «О природе слова») (II: 219).
Тему столкновения двух поэтических эпох привносит в «Грифельную оду» и другая отчетливая реминисценция – из знаменитого лермонтовского «Выхожу один я на дорогу…»:
«В двадцатых годах Осип был очень радикально настроен», – с легкой насмешкой рассказывала Анна Ахматова Лидии Гинзбург на исходе этого десятилетия [393]. С ахматовским суждением трудно не согласиться: в своих статьях начала 20-х поэт предпринял попытку кардинальной переоценки акмеистической табели о рангах, создававшейся при его же собственном активном участии. Разумеется, Мандельштаму было глубоко чуждо стремление футуристов подсказать власти, кто есть кто в современной русской словесности, во многом продиктованное футуристической «избыточной советскостью, то есть угнетающим сервилизмом» (формула Бориса Пастернака) [394]. Но и Мандельштам в эти годы увлеченно сводил литературные счеты и подводил литературные итоги [395].
Справедливости ради отметим, что радикально негативно по отношению к своим собственным прежним предпочтениям был настроен отнюдь не только автор «Tristia». Вот что, например, в 1921 году писал о нем самом ближайший приятель Бенедикт Лившиц: «В противоположность Петникову, у которого слово – растение, “поросль”, “побег”, слово О. Мандельштама замкнуто в самом себе, лишено способности органического роста, – обломок мертвой природы, подлинный “камень” <…>. Что это, как не голова, немного склоненная набок, как бы прислушивающаяся к камертону, которым дóлжно проверять каждый звук. Не новых слов ищет поэт, но новых сторон в слове, данном как некая завершенная реальность, – какой-то новой, доселе не замеченной нами грани, какого-то ребра, которым слово еще не было к нам обращено. Вот почему не только “старыми” словами орудует поэт: в стихах Мандельштама мы встречаем целые строки из других поэтов; и это не досадная случайность, не бессознательное заимствование, но своеобразный прием поэта, положившего себе целью заставить чужие стихи зазвучать по-иному, по-своему. Все творчество Мандельштама, построенное почти исключительно на эффекте разностного восприятия известной звуковой его величины (отдельного слова или целого предложения), рассчитано, таким образом, на весьма узкий круг лиц, способных принять игру ощущений, предлагаемую им, этим безусловно интересным, но упадочным поэтом» [396].