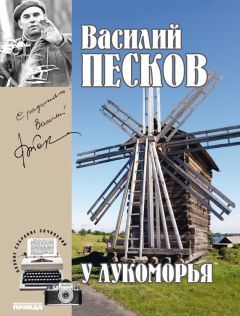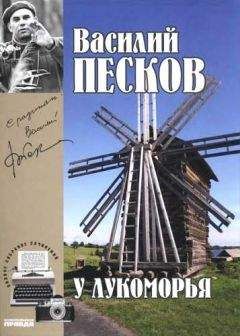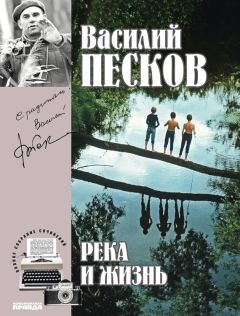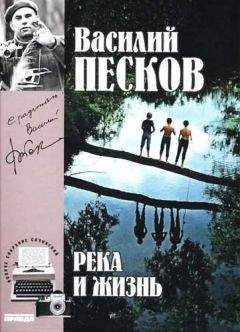Александр Лебедев - Чаадаев
Ведь даже и солнечный Пушкин тогда уже изнемогал, скорыми шагами приближаясь к своей гибели, которая, по словам все того же чуткого Луначарского, была своеобразным «полусамоубийством».
Общественное настроение политической «усталости» захватывало все большие и все более и более социально ценные слои и группы тогдашнего русского мыслящего общества. Общественный индифферентизм становился социальной эпидемией среди наиболее передовой и наиболее мыслящей части русских людей.
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружилась голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспаривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права...
Это стихотворение было написано Пушкиным в том же году, когда в печати появилось «Философическое письмо» Чаадаева,
Конечно, в этих стихах есть и уже традиционное, как помним, для Пушкина отталкивание от всяческого политического репетиловства, с его «журнальными замыслами» и морочаньем олухов, с его «радикальной» «словесностью» и т. д. Тут есть отказ от всякого рода политического обывательства. Но есть тут, несомненно, и отшатывание от всякой вообще политики, уравнивание любой политической активности с некоей жизненной суетой. Есть тут и «уход в себя» — то есть в утопию «внутренней свободы» собственного «я». В такой негативной форме теперь суммировалось и пушкинское прощание с декабризмом и пушкинский отказ от иллюзий «просвещения» Николая I до уровня великого Петра.
Так писал тогда Пушкин. И конечно, на почву такого общественного «настроения» искренний, энергический призыв Чаадаева мог пасть семенем, обещающим достаточно пышные всходы.
Сам Пушкин был тогда беспредельно одинок. Власти его боялись, не верили ему и держали «при себе», боясь отпустить на «волю». Только еще начинавшая поднимать голову молодая Россия не могла забыть ему царистских стихов, подозревала в политическом и идейном отступничестве. Белинский открыто говорил, что пушкинский гений мертв. «Великим гением» казался тогда Кукольник и даже кое-кому Булгарин. «Уход в себя» был тяжко скомпрометирован очевидной, во всяком случае для Пушкина, внутренней изменой его земной «мадонны». «Обратитесь с воплем к небу, — спешил посоветовать ему Чаадаев, — оно ответит вам!»
Пример великого Мицкевича, в последний период своей драматической жизни «поднявшегося» к самому экзальтированному католическому мистицизму, был перед глазами.
Какое-то невероятно точное чувство социального, нравственного и эстетического такта удержало тогда Пушкина от страшной для каждого гения встречи с «серым карликом». Пушкин простился с жизнью знаменитым «Памятником», в котором, утверждая единство своего творчества и своей личности с воистину потрясающей ум и душу силой, навсегда утвердил себя как певца «вольности» и, отмахнувшись от мнений суетных современников, заявил, что его стихи столь же бессмертны, сколь бессмертна может быть лишь поэзия вообще.
«Памятник» Пушкина — уникальный пример идейного и гражданского героизма великого человека, вставшего в последнем своем смертном уже усилии во весь свой гигантский рост, срывая с себя чугунные лохмотья и позорные вериги гнилого безвременья, и поднявшего в этом титаническом жесте вместе с собой и свою эпоху на высоту, которую даже и представить тогда себе не могли ни недалекие почитатели общепризнанных авторитетов, ни, кстати сказать, гордые одиночки, утешавшие себя во Христе.
Но это был Пушкин.
А вообще-то в том безвременье, которое засасывало и оглупляло тогда и самых даже передовых людей, в период, когда былые идеалы рухнули, а новым неоткуда было пока еще и взяться, за хрустальную соломинку интеллектуальнейшего чаадаевского мистицизма могли бы ухватиться многие.
Так почему же все-таки царизм с такой яростью обрушился на Чаадаева за его «Письмо»?
Конечно, какую-то роль в столь суровой оценке властями чаадаевского выступления сыграло обращение Чаадаева к католической религии.
«Православие, — писал Луначарский, — при всей грубости своих догматических форм, если сравнить их с утонченной прочной католической теорией и острым духом рационалистической критики протестантизма, тем не менее сумело сыграть некоторую положительную роль в пользу господствующих классов России не только в качестве основной формы идеологического обмана некультурных масс, но даже в смысле своеобразного „ослиного моста“14 для потребности самого изощренного оппортунизма людей высокой культуры, желающих найти примирение с действительностью...
Самым приятным для господствующих классов должно было явиться то, что оно, в сущности, не требовало никаких реальных реформ, вовсе не желало найти какого бы то ни было подлинного отражения в действительности, за исключением таких пустяков, как милостыня, пожертвования, монастыри и т. д. Все в жизни могло и должно было оставаться по-прежнему: православный царь, православные жандармы, православные помещики...»
Как бы то ни было, заключает свою мысль Луначарский, «...но это хитрое в своей наивности построение правды небесной, которое оправдывает все неправды земные и даже слегка реально смягчает их (больше на словах, а иной раз „делами милосердия“), могло служить формой примирения с действительностью для проснувшихся к острой критике умов, для сердец, начавших содрогаться при виде социального зла, которым, однако, впоследствии понадобилось парализовать это содрогание или так или иначе умерить его, чтобы оно не привело к фатальному столкновению с господствующей силой.
Если, — добавляет Луначарский, — мы возьмем, к примеру, три стадии подобного использования религии в русской литературе и выберем для этого Гоголя, Достоевского и Толстого, то мы получим такую градацию».
Но что касается Чаадаева, то можно, пожалуй, даже сказать, что сама религия занимала в его идее духовного пересоздания мира подчиненное место. До известной степени ему было все равно, с какой именно религией он в данном случае имеет дело, и этот странный на первый взгляд религиозный индифферентизм у религиозного философа был очень характерной чертой чаадаевского миропонимания в последний период его деятельности. Во время написания своих «Философических писем» Чаадаев следующим образом высказывается на этот счет, обращаясь к тому же Пушкину и уговаривая Пушкина примкнуть к его, Чаадаева, взглядам на мир: «...Смутное сознание говорит мне, — пишет Чаадаев, — что скоро придет человек, имеющий принести нам истину времени. Быть может, на первых порах это будет нечто, подобное той политической религии, которую в настоящее время проповедует С.-Симон в Париже, или тому католицизму нового рода, который несколько смелых священников пытаются поставить на место прежнего, освященного временем. Почему бы и не так? Не все ли равно, — заявляет Чаадаев с совершенной уже откровенностью, — так или иначе будет пущено в ход движение, имеющее завершить судьбы рода человеческого?»
С точки зрения ортодоксально-религиозного мышления подобное высказывание отзывается и некоторым даже цинизмом.
Во всяком случае, как видим, царизму был прямой резон защищать «свое» православие и обороняться от того западнического чаадаевского католицизма, с которым тот выступил в «Философическом письме». Следует вспомнить в этом случае и то, что как раз в тот момент русское самодержавие пришло к идеологическому отождествлению своего собственного принципа с принципом православной религиозности в известном триединстве уваровского лозунга: «Православие, самодержавие и народность».
Но главное, конечно, заключалось все-таки не в инаковерии Чаадаева.
Что же прежде всего возмутило в этом «Письме» и двор и тогдашнее русское «околодворье»? Что прежде всего инкриминировалось современниками Чаадаеву как автору «Письма»?
Обратимся к свидетельствам самих современников.
Известный тогдашний охранитель и «патриот» немец Вигель писал, донося по начальству, что в означенном «Письме» «многочисленнейший народ в мире, в течение веков существовавший, препрославленной, к коему, по уверению автора статьи, он сам принадлежит, поруган им, унижен до невероятности». Единомышленник Вигеля, некто Татищев, негодовал по поводу «Письма» вследствие того, что «под прикрытием проповеди в пользу папизма автор излил на свое собственное отечество такую ужасную ненависть, что она могла быть внушаема ему только адскими силами».